|
|
 |
Огарков Ф. В. - Материалы дневника.
МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
3 (16).03. (16.03) 1900 г.
Боже! Как затягивают эти «мелочи жизни»!... Третий месяц наступает, а я все еще не нахожу времени начать свой дневник…
Вот уже 8 месяцев прошло с тех пор, как я состою городским головою /1/… Как светло было начало, c какими мечтами и надеждами ожидал я этого «поста»! Ведь это моя давняя мечта… Еще давно, на школьной скамье, я уже мечтал об общественной работе, и именно работе в родном городе, среди близких знакомых людей… И вот, достигнув желаемого, я начинаю разочаровываться – цель слишком близка. Эта жизнь учит, слишком много в ней «мелочей жизни». Таких мелочей, которые опутывают человека, обволакивают его тиной, заглушают в нем добрые порывы… Несколько месяцев тому назад, собираясь вновь заняться дневником, я решил записывать в нем все пережитое, все прочувствованное, все выдающиеся события в моей жизни, мои планы, мечты…
Начну же с сегодняшнего дня. Хотя я и мечтал о должности городского головы, но не думал так скоро занять эту должность – уж слишком «молод я был». В нашем городе никогда еще не было такого молодого…
Но когда я увидел, что выбор незначителен, тогда я решился занять эту должность. Но прежде всего мне нужно было на пути устранить одно препятствие – это мою «неблагонамеренность»… Это слово поднимает в моей памяти рой самых светлых воспоминаний… А потому оставлю пока в стороне историю с моим «головенством», а отдамся воспоминаниям…
Насколько я помню себя, любовь к книге, по общественным вопросам я приобрел с пятого класса реального училища. Тогда мне попалась книжка, впервые сильно повлиявшая на мой ум и душу. Это был роман Станюковича «Два брата». Этот роман открыл мне светлые горизонты, он пробудил во мне любовь к «чему-то» светлому, доброму, хорошему… Я не знал, я не понимал этого «чего-то», но оно меня тянуло к себе всем существом своим… И вот у нас уже организуется кружок, уже мы начинаем почитывать «серьезное»… Правда, многого я еще не понимаю, над многим начинаю ломать голову… Мы толкуем… О чем? О Пушкине. Со слов Писарев начинаем разбивать его, отрицать его художественные достоинства… Правда, все это перепевы, но они были искренны, в них верилось тогда глубоко…
У меня в памяти светлая, теплая весенняя ночь, когда мы увлекались статьей Добролюбова «Что такое обломовщина?»… Памятно и еще время (опять весна!), когда я увлекался романом Мордовцева «Знамение времени». Был экзамен по истории, мне нужно было готовиться, но Мордовцев тянул меня к себе…
Еще возникает у меня в памяти один наш кружок. Он был невелик, человек примерно пять. Мы каждую субботу собирались у одного семиклассника – еврея…
Запремся, бывало в маленькой, грязной комнатке и читаем или статьи Михайловского из «Отечественных записок», или что-либо «нелегальное»… А за стеной жужжат жалобные голоса евреев – молящихся… Обыкновенно в этой квартире собиралось несколько стариков для молитвы каждую субботу. Покроют себя пестрым покрывалом, наденут на лоб платки и начинают молиться. У нас беседы идут далеко за полночь, глаза слипаются, хочется спать… И вот мы вместе заваливаемся спать в этой маленькой комнатке и сладко спим… Чудные грезы носятся над нами… О чем мы говорим?
Право трудно сказать! Здесь всё мечты, несбыточные мечты, шутки, теоретические споры… Но все мы далеки от жизни… Мы слишком чисты, нам кажется все так хорошо в этом лучшем из миров…
В памяти моей всплывает еще один факт – в 6 классе мы затеяли издавать газету «Листок реалиста»… Я написал передовицу… В ней говорилось о том, что мы должны высоко держать знамя свободы… Листок наш продержался только до третьего номера… Погиб он не от административного давления, а от того, что не хватало литературных сил…
С 6 класса я вошел в кружок людей, которые имели значение в моей дальнейшей судьбе…
Как вспомню, что этому прошло уже 15 лет, так станет грустно на душе… Как будто вчера все это было!... Все лица, все дела, всё, всё… А между тем, уж многих нет в живых, одни «далече», «другие ему изменили»… Как коротки дни счастья, и как быстро улетают они!... Меня ввел в это «святилище» мой товарищ… С каким сердечным замиранием вступал я впервые в эту новую среду!... Я уж заранее всех их любил и уважал… Вот он как живой стоит передо мной Верцинский!... Высокий, худой, в неуклюжем старом платье, лохматый… Он говорил мягко, ласково… Он говорил о том, что надо критически относиться к окружающему, к жизни и делам людей… Многое он говорил, но многого я не понимал… Но вот к нему пришел наш «герой» «Герман» (гимназист 8-го класса, пострадавший за убеждения)… Смотрю я на него и разочаровываюсь – ничего геройского – самое обыкновенное, неинтеллигентное лицо… Теоретических споров он не вел, вообще больше молчал и принимал больше участие в разговоре практического характера, в каковые разговоры я, как непосвященный, участия не допускался…
Жизнь «Германа» была печальна; изломав, исковеркав его в самую светлую пору, она не дала ему зрелости… Он сильно пил, устранился от интеллигентной жизни и закончил свою горемычную жизнь под поездом. (Сам ли он бросился под поезд или здесь был «несчастный случай» - это навсегда останется загадкой.)
10.03. (23.03) 1900 г.
Вот уж неделя прошла с тех пор, как я не заглядывал в свой дневник… Некогда было!... Захватила масса «мелочей» и не до дневника стало… Впечатления этой недели скудны и печальны. Два раза пришлось быть в суде и видеть настоящую без всяких прикрас жизнь… Сколько грязи, горя и нищеты предстало предо мной… Были персонажи смешные, но в тоже время навевающие страшную грусть… Я не могу без грусти вспомнить, например, сотника, жалкого смешного мужичонки (типичный персонаж рассказов А. Чехова), судившегося за то, что он упустил арестанта. Оборванный, жалкий, он рассказывал, как ему дали двух арестантов сопровождать до пункта (это на одного!), а еще дали «бумагу»… И вот один из арестантов бежал… Его судили за «небрежность» и наказали двумя днями ареста…
Было еще дело – судили мужика, неграмотного, за то, что он в бумаге, поданной в судебный съезд, оскорбил волостной суд, назвав его решение «бессмысленным». Мужику написал просьбу «аблокат» и за его неграмотность сам за него расписался… Что писал «аблокат» мужик, конечно, не знал и не понимал. Он заплатил ему деньги за «бумагу», а теперь его за это посадили на скамью подсудимых… Сколько прошло перед глазами этих «бытовых картин», и все грустных и тяжелых… Одно отрадно в этом – это суд присяжных… Ах, какой это прекрасный институт! Сколько в нем света и правды…
Смотришь на всю
внешнюю (даже внешнюю) обстановку и радуешься в душе… Единственное место, кажется, что соблюдается равенство всех перед Законом, где уважается свобода убеждений, свобода личности… Поздно, первый час ночи… Воспоминания, видно, откладываю…
18.03. (31.03) 1900 г.
Начинается весна, а для меня, как городского головы, это время сопряжено с самой тяжелой деятельностью… Очистке улиц от грязи, навоза, заботам о санитарном благоустройстве… А там начинается работа – шоссе, мостовые, постройки зданий и прочее… Все это меня не может захватить, не может по тому, что во мне нет хозяйственной жилки, нет страсти… Мне бы хотелось совсем другой деятельности, более широкой, более захватывающей… А где ее взять? Вопросы народного образования, вопросы народного здравия… Все это хорошие вопросы, но как их разрабатывать, когда средства ограничены, когда люди инертны, равнодушны… Создал я библиотеку народного чтения, книжную торговлю, музей… И что же? Публика равнодушна… Среди нее нет людей душевно, идейно относящихся к этим культурным начинаниям… Нет людей дела, а есть только одна жалкая пассивность… А в думе? Безыдейность, глупость, равнодушие, и отчасти своекорыстные инстинкты… А главное, мало искренности, «воодушевления»… Вначале было, горячо взялись за общественное дело, да скоро поостыли…
Среди учителей и учительниц тоже не нашел я людей, идейно работающих… Есть ремесленники, добросовестно работающие, но равнодушных к своему делу… Мои товарищи (члены управы), мои помощники – народ крайне неразвитый, недалекий… И вот – я один…
Возвращусь к своим воспоминаниям…
Я должен перейти к одному из интересных моментов моей жизни, к знакомству и дружбе с «дедом» и Ванечкой… «Дед», Мануилов Петр Павлович, это радикал 70-х г. Он сын дьячка, учился в Медицинской академии, был исключен. Потом поступил в университет. Был исключен, выслан, сидел в тюрьме и прочее… Я, не зная его, уже поклонялся ему. Он вел со мной беседы на общественные темы, давал мне книги исторического содержания. У него было много знакомых среди разных классов общества. Здесь были и рабочие, и реалисты, и гимназисты, семинаристы, фельдшеры … Вообще, он вел знакомства демократического характера… Он любил выпить (под конец он сильно стал этим злоупотреблять)… Квартиру он занимал маленькую, плохенькую. В этой-то квартире мы частенько собирались. Через "деда" я познакомился с остальным кружком радикалов… Была вечеринка (с благотворительной целью)… Боже! Уже 16 или 17 лет прошло с тех пор, а я помню эту вечеринку, как будто она была вчера!... Я с трепетом шел на эту вечеринку… Меня и радовало то, что я состою в числе лиц, которым доверяют (вечер был устроен для избранного кружка и обставлялся некоторой долею таинственности), отчасти и волновала – а вдруг училищное начальство узнает… Мне было тогда 17 лет… Народу собралось много – всё была молодежь… Семинаристы, гимназисты, фельдшеры, некоторые либеральные чиновники и прочие… Были и споры, были и танцы, песни пелись все запретные… Одно мне не особенно понравилось – много было выпито… Но ведь, дело было благое, а выпивка давала доход… Вот как живые, сейчас встанут передо мною многие из участников того вечера… Один семинарист – тогда отчаянный радикал, горячо говоривший и звавший на бой… Теперь преблагополучный батюшка… Брат его, сидевшего потом в тюрьме, через год (или не много более) после того вечера умер от чахотки… «Митька»… Но тот… «ему изменил» и «продал шпагу свою»… Вот встает в моей памяти «Лазарь»… Этот, кажется, крепко держится «устоев» и до сих еще пор /2/… На этой вечеринке я встретил Германа во всем апогее его славы… "Дед", конечно, был «выпивши»… С каким радостным, веселым настроением возвращался я с того вечера… Я, конечно, многого не понимал еще, но мне уже ясно рисовалось, что есть зло и что с ним надо бороться и что путь борьбы уже избран, выработан… В теории, в мечте он был очень прост и ясен, ну, а о деталях… я еще не думал, я еще не мог в них разобраться.
Да, это была весна, светлая, радостная весна… Мир и окружающие люди казались такими хорошими… Все они (или почти все) казались героями, солью земли… Началась пора увлечения «бескнижной» литературой, захватывавшей, волновавшей сердце… Да больше сердце, чем ум.
Никогда в жизни не забуду этих светлых дней… Правда, в жизни потом были и более радостные дни, но эти были «первые» и потом их никогда не забудешь… Не забудешь этого трепета, с которым читаешь брошюру или листок… Сознание, что и ты «единица» какого-то «целого», сознание, что и тебя зовут на борьбу со злом… Ах, как хорошо это сознание!... Началась работа… На уроках в классе таинственно передавались брошюры…
Зашли толки об устройстве библиотеки, чтений… Завязывались связи /3/ с другими учебными заведениями. Началась «пропаганда»… Но вот дунул ветер, и «облетели цветы»… Мы мальчишки, не посвященные в тайны конспирации, чистосердечно сознались в своих прегрешениях… Впрочем, наши прегрешения и мало интересовало «охранителей»… Их руки тянулись к другим… Первый пострадал «дед»… Я подхожу к самому тягостному воспоминанию из своей жизни… У меня завязалась самая тесная дружба с кадетами… Я стал снабжать их литературой, и мы уже начали мечтать об организации кружка… Но в один прекрасный день меня неожиданно посетили два наших учителя и стали обыскивать квартиру, а потом неожиданно предложили мне немедленно ехать с ними к директору…
Я помню большую залу директорской квартиры… Было часов 12 ночи, в зале горела одна стеариновая свеча… Директор меня сразу огорошил, что все «открыто», что кадеты во всем сознались и все рассказали про меня… «Так как теперь мне все равно нечего скрывать, то, не желая придавать этому делу огласку, прошу вас чистосердечно раскаяться передо мной, и мы закончим вопрос посемейному». Начались сообщения фактов, компрометирующих меня в «политическом» отношении (со слов сознавшихся кадетов). Я неопытный мальчишка, сознался во всем, во всем… И даже в том, что был знаком с «дедом»… И не из боязни я сознавался, а так, потому, что не умел лгать, потому, что не сумел скомбинировать заранее обдуманных ответов… Директор отпустил меня миролюбиво, обещав все забыть /4/…
Но на утро я уже был приглашен в жандармское отделение… Там мне была устроена очная ставка с «дедом». Я узнал его, но он меня не узнавал… Потом, когда он уже был в тюрьме, он часто смеялся, говорил мне, что чуть не расхохотался, когда категорически отстаивал незнакомство со мной… Он смеялся, а мне было тяжело… Мне думалось, что я виновник его страданий, хотя, в сущности, говоря, я мало в чем был виноват… Ах, как тяжело мне было на душе в тот день, хотя я впервые оказался в жандармском отделении, как страстно мне тогда хотелось умереть… Один момент я близок был к самоубийству… Я не стану перечислять тех мытарств, каким подвергся я в жандармском отделении… Сколько ухищрений, сколько ловушек ставилось мне, мальчишке 17 лет этими взрослыми опытными людьми… В ход пускалось и ложь, и клевета, и запугивание, и ласка… Но я уже оправился от удара. Моя дружба с "дедом", затуманенная было в один момент, опять прояснилась (мы с ним энергично стали вести переписку)… Много нравственных страданий, много волнений пришлось перенести… Дело кончилось для меня пустяком – отдачей на «гласный» надзор к Классному наставнику, и выговором через прокурора. Для моего товарища, окончившего уже курс, арестом на неделю (теперь он живет в Париже). Хуже всего дело кончилось для "деда" – его на 3 года выслали в Березов…
1.04. (14.04) 1900 г.
Мне памятен день отъезда "деда" в Березов… Был жаркий летний день, когда мы собрались у ворот тюрьмы… Сегодня отправляли партию заключенных… Нас собралась небольшая группа, человек десять. Здесь были гимназисты, семинаристы и другая молодежь… Мы принесли букеты… Вдали от нас собрался и другой кружок. Все это люди родные и близкие «уголовных», отправляемых сегодня… Заскрипел засов у ворот… Солдаты конвойной команды стали попарно выходить с тюремного двора… А вот и колодники… В серых халатах, таких же тапочках… У многих на руках и ногах кандалы… Ах! Никогда я не забуду этого противного лязга цепей! В толпе провожавших раздался стон, плач… Некоторые арестанты отзывались сочувственно на прощальные приветы, но были и такие «бесшабашные», которые смеялись и глумились… Но вот в хилом «строю» среди остальных увидели мы и "деда"… Как живой он стоит передо мной… В большой черной шляпе, в очках, с большой рыжей бородой, в потертом пальто, он весело улыбается нам и кивает головой… Мы передаем ему букет… Власти в то время вообще относились довольно добродушно к деду и нам, так что мы могли переговариваться.
Но вот послышалась команда… Арестантов выстроили в колонну, окружили цепью солдат… И тронулись в путь… Опять зазвенели цепи… "Дед" долго махал, то шляпой, то букетом цветов… На душе было грустно, страшно грустно… Странным казался этот хороший человек с букетом цветов в хилом кругу отверженных людей с бритыми лбами, в кандалах… Цепи и цветы!... Мы поспешили на станцию… Вагон для арестантов был готов… Мы видели, как ввели этих несчастных, как захлопнулась дверца вагона… "Дед" с букетом появился у окна. Мы, молча, приветствовали его… Но вот трогает поезд… Прощай дорогой "дед"!... Прощай надолго… С барышнями делается истерика… На прощание дед дал нам по цветку… Мне досталась роза… Я долго ее берег, засушил ее… Но прошло 15 лет и она затеряна!... Через три года мы встретились с "дедом"… Он был так же бодр и весел… А сколько пришлось ему испытать за эти три года жизни в Березове!...
Но впереди его ждало еще худшее… Ему пришлось пробыть два лишних года в ужасных «Крестах», в одиночке!... Он там схватил гнойный плеврит, но все-таки уцелел…
Жизнь! Куда же ты мчишься!... Я как сон теперь воспринимаю все это… Как будто это было вчера… А ведь уж многие года наложили печать на эти события… Чем больше я начинаю вспоминать, тем все более удаляюсь от настоящего! Но что же делать, если это дорогое, хорошее прошлое захватило меня!...
Мне, например, вспомнилось, как я себе устраивал свидания с "дедом" и другими знакомыми /5/… Тогда ведь нравы были патриархальны в провинции… Тюрьма в нашем городе стояла на самой окраине. В ней в это время находились: "дед", три семинариста, товарищ мой Воронов – реалист (только что окончивший курс), еврей.
В ясный весенний день мы, переодевшись в костюм штатского (мы были реалисты), становились на валу и кричали, чтобы народ вызвал "деда"… Арестанты знали его и уважали, они сейчас же выкликали его… И вот у решетчатого окна (в третьем этаже) появлялся "дед"… Камера его была в боковом приделе тюрьмы… "Дед" хватался за решетку окна и висел на руках… При таких условиях происходила наша беседа. Я кричал, стоя на валу. Звук моего голоса летел через стену в заветное окно третьего этажа…
Часто нашим переговорам мешал шум, гам, перебранка среди арестантов, а то и дежурный надзиратель… Иногда удавалось его подкупить какими-нибудь 20 или 15 коп., а иногда приходилось и удирать… Один раз (это у меня осталось в памяти) был хороший вечер, мы мирно переговаривали с моим товарищем Вороновым. Он перебросил мне через ограду "корреспонденцию" тюрьмы, для удобства полета через тюремную стену с завернутым куском камня… Полет был удачен, камень перелетел через стену и упал в ров. Я быстро помчался за предметом, но меня уже заметили мальчишки. Еще бы минута, и вещь попала бы к ним в руки. Я схватил сверток и быстро полетел в поле без оглядки… Когда я оглянулся, на том самом месте рылись ребята и около них стояли надзиратели…
Еще вспомнилось, но это уж в другом роде. Мы мирно перекрикивались с "дедом" один раз, как в одном из окон, в прогале между решеток протянулись ноги одного колодника в цепях и он начал ими играть, приговаривая разные прибаутки… На душе стало жутко! А он преспокойно позванивал ими и даже подпевал…
Раз я добился свидания с "дедом" в тюрьме, назвавшись его родственником… Власти были к нам любезны, дали нам самоварчик и мы мирно беседуя, пили чай в комнате для свиданий… Давно уже надзиратель приходил и говорил, что пора уходить, но мы всё сидели и сидели… Помню, что здесь же в этой комнате, только в другой половине (комната перегорожена сеткой или скорее решеткой) из толстого железа происходили свидания между арестантами и их родственниками. Эти арестанты (благообразный старик, миловидная девушка средних лет и молодой парень) были недавними обитателями этого дома, месяца два перед этим, они совершили ужасное преступление, с целью грабежа убили трех женщин… Преступники были обнаружены и пойманы через несколько дней после совершения преступления… Смотря на эти лица, никто не мог подумать, что ими сделано…
Проходя один раз мимо тюрьмы, я наблюдал такую жанровую картину: у КПП сидят два арестанта и мирно о чем-то разговаривают. В это время по улице идет пьяный, грязный оборванец и кажется (точно теперь не помню), обращается ко мне с просьбой о помощи… «Не подавайте ему, барин!» - кричат мне из тюрьмы эти два арестанта – «что их, дармоедов, поваживать! Ишь ты! Нет, чтобы работать, а он просить! Изнежничался, сукин сын!»… Ведь очень мило!... Воришки негодуют на оборванца за то, что он не трудится…
10.04. (23.04) 1900 г.
Передо мной лежат записные книжки студенческой поры… Так как в них писалось то, что волновало в то время душу, что так или иначе оставляло впечатление, то я хочу переписать из них кое что сюда… Лежат эти книжки потрепанные, истертые… В них всё писал «под настроением»… С ними связано столько светлых воспоминаний!...
Начинаю с 1886 г. – это первые годы моего студенчества, когда были так еще новы все впечатления, когда душа рвалась на простор… Здесь было много и сомнений, и очарований, и разочарований!...
Вот выдержка из прочитанной книги (Иоганна Шерра - "Человеческая трагикомедия"): «На пошлый ум возвышенная идея производит такое же впечатление, как луч звезды на ледяную поверхность. Она не тает и остается неподвижной. Великие люди, имеющие громадное влияние на своих современников служат только воплощением их лучших инстинктов и стремлений. В таких вдохновленных и передовых людях – дух времени вмещает свое тело. Народ везде и всюду отказывается от своих героев и избавителей, преследует, мучит, распинает и сжигает их, между тем, как за торжественной колесницей нелепых узурпаторов, мучителей и угнетателей всегда бежали целые толпы… Так истинные герои и спасители живут для человечества, не получая от него никакой благодарности. Великая заслуга Вольтера состояла в том, что он подорвал авторитет тупоумных ученых. Бичом своих насмешек он изгнал из храма науки ученых-торговцев теологическими нулями и филологическими пустяками. Вольтер первый возбудил сомнения в ложе старого доброго времени, в религиозном, социальном и научном направлении и тем вызвал деятельность неисчислимой важности. Он стоял во главе тех, которые извлекли науку из затхлых гипотез и внесли ее в действительную жизнь – подвиг, перед которым все усилия педантов походят на усилия червя…
Благо монархии заключается в том, что мало-мальски энергичная личность, занявшая престол, может принести пользу и добра более чем избранный вождь народного государства и наоборот, ее горе состоит в том , что плохой правитель налагает печать своего ничтожества на всю государственную жизнь».
22.04. (05.05) 1900 г.
Продолжаю выписки…
"Семя прогресса есть идея, но не мистически присутствующая в человечестве. Она зарождается в мозгу личности, там развивается. Потом переходит из этого мозга в мозг других людей. Разрастается качественно – в увеличении умственного и нравственного достоинства этих личностей. Количественно – в увеличении их числа и становится общественной силой, когда эти личности сознают свое единомыслие и решаются на единодушные действия. Она торжествует, когда эти личности, проникнуться ею, внесут ее в общественные формы".
Права бороться за истину у меня никто не может отнять, если я сам не отниму его у себя во имя вреда, который может выйти из моей деятельности, во имя моего бессилия, в виду громадных сил организованного общества.
Конечная цель всякого нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека все-таки состоит в том, чтобы навсегда разрешить вопрос о голодных, раздетых людях. Вне этого вопроса нет решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать.
Поэтому можно назвать мыслителями только тех людей, которые из эпохи в эпоху раскрывают перед нами страдания человечества, которые отыскивают средства, чтобы облегчить и исцелить эти болезни.
Не то знание ценно, которое в виде умственного жира, а то, которое превращается в умственные мускулы. Что естественно и свойственно человеку: насилие или закон Христа?
Знать ли, что спокойствие и безопасность меня и семьи, все мои радости и веселья, покупаются нищетой, развратом и страданиями миллионов, ежедневными виселицами, сотнями тысяч страдающих узников, и миллионом оторванных от семей и обдуренных дисциплиной солдат, городовых, урядников, которые оберегают мои потехи заряженными на голодных людей пистолетами. Покупать ли каждый кусок, который я кладу в свой рот или в рот своих детей – всем тем страданием человечества, которое неизбежно для приобретения этих кусков, или знать, что какой ни есть кусок – мой кусок только тогда, когда он никому не нужен и никто из-за него не страдает…
«Так в детстве я мечтал»… Наступила другая пора – пора увлечения марксизмом, политической экономией… Я сделаю и эти выписки из своей книжечки… Право, жаль выбрасывать из нее хотя бы даже одну строчку – со всем этим соединено столько светлых, хороших воспоминаний, столько радужных надежд!...
Итак, начну…
«Труд есть товар, обладатель которого, наемный рабочий, продает его капиталисту, затем, чтобы жить. Это есть свойственная рабочему жизненная деятельность».
Труд для рабочего является не жизнью, а принесенной в жертву частью жизни. Продукт его труда не составляет так же его цель. Труд был не всегда товаром, не всегда был он наемным трудом, то есть свободным трудом. Раб не продает своего труда рабовладельцам, он вместе со своим трудом навсегда продан его господину. Сам он товар, но труд его – не его товар. Крепостной продает только часть своего труда. Свободный рабочий сам продает себя по частям. Рабочий, имеющий один источник дохода – продажу своего труда, не может покинуть весь класс капиталистов иначе, как отказавшись от своего существования. Он принадлежит всему классу работодателей.
Хотя рыночная цена товара всегда стоит то выше, то ниже издержек его производства, но понижения и повышения взаимно уравнивается, поэтому принявшие эти промышленные приливы и отливы, мы можем сказать, что в определенных промежутках времени товары обмениваются один на другой, соответственно издержкам производства, а, следовательно, и цена их определяется издержками их производства.
Каковы бы ни были колебания заработной платы, цена труда, в конце концов, всегда определяется издержками производства, рабочим временем, необходимым для производства этого товара и труда.
Издержками производства самого труда равны расходу, необходимому к поддержанию рабочего в годном для рабочего состояния и на его подготовку к этой работе. Заработная плата повышается и понижается в зависимости от спроса и предложения. Цена труда рабочего, где не требуется никакой подготовки, где достаточно одной простой природной силы, определяется одной ценою необходимых средств к существованию. Капитал состоит из сырья, материалов, орудий труда и всякого рода средств существования, которые употребляются для производства новых рабочих инструментов и новых средств существования. Все эти составные части капитала представляют собой не что иное, как следствие труда, его продукт – накопленный труд, таким образом – накопленный труд, служащий средством для нового производства, есть капитал.
Общественные условия производства меняются с изменением и развитием материальных средств производства, то есть производственных сил. Условия производства, в их совокупности, образуют то, что называется общественными отношениями, обществом, и притом обществом, находящимся на определенной исторической ступени развития, обществом с отличительным определенным характером. Необходимые условия капитала, есть существование класса, не имеющего ничего, кроме способности к труду. Капитал предполагает наемный труд, а наемный труд предполагает капитал. Увеличение капитала равносильно численному увеличению пролетариата, то есть рабочего класса. Для более сносного положения рабочего является, возможно, более быстрое возрастание производительного капитала – возрастание власти накопленного труда над живым трудом.
Вольная заработная плата выражает цену труда по отношению к цене остальных товаров.
Относительная заработная плата выражает непосредственную цену труда по отношению к цене накопленного труда. Относительная стоимость накопленного труда и капитала – взаимное меновое отношение капиталиста и рабочих.
Чем более развивается производственный капитал, тем более развивается разделение труда и применение машин. Чем более развивается разделение труда, тем шире становится конкуренция между рабочими, тем более уменьшается их заработная плата"… И т.д.
14.05. (27.05) 1900 г.
Просматриваю книжку далее и нахожу заметки другого рода… Начинают всплывать воспоминания студенческих годов… Передо мной встает образ Цебриковой Марии Константиновны… Небольшого роста, в черной юбке и черной кофте простого покроя, с умным энергичным лицом, со стриженными, уже поседевшими волосами… Как живая она встает передо мной. Женщина эта в мое время пользовалась глубоким уважением… Она отзывчиво относилась к молодежи, поддерживала ее, оказывала большие услуги политическим. Когда я был уже в Москве, в Петровке (Петровская академия), она наделала большой шум как в Петербурге, Москве, так и по другим городам России, своим замечательным «письмом к Александру III».
Столько энергии, столько искренности, столько глубокой веры в правду, в добро было вложено в это письмо. В нем раскрывались все наболевшие язвы русской жизни, в нем раскрывались все преступления министров…
За это письмо Цебрикова была сослана в Вятскую губернию… Теперь, кажется, она возвращена. /6/
Слышал я и о другой чудной женщине, женщине-фанатике – Субботиной. Ее две дочери были сосланы в Сибирь и одна из них на пути туда погибла. Мать старая 60-летняя старушка, не только не жалеет, но напротив, гордится своими дочерьми. Наконец, она была арестована сама и сослана в Сибирь, но и там она не пала духом… Уже кончался срок ссылки, но она опять попалась и была посажена в тюрьму…
1.06 (14.06) 1900 г.
Вспоминаю свое знакомство с некоторыми писателями:
Н. К. Михайловским, Д. Н. Маминым-Сибиряком, С. Н. Южаковым (русский публицист)… Когда-то мой брат примыкал к литературным кругам (теперь он от всего этого отошел). У брата встречи были не интересны. Все (за исключением Михайловского) больше пили и балагурили. Мамин и Южаков дошли до "положения риз"… Один Михайловский держал себя корректно. Я был не доволен встречей… У меня еще остались юношеские взгляды на писателя, как на «пророка», как на «сверхчеловека», которому чуждо все земное… А оказалось, что они, писатели, такие же смертные… И подчас очень не интересные… Мамина я видел потом у нас в Усмани (он гостил несколько дней)… Он сильно пил, почти каждый день… Утром писал, а вечером пил.
Михайловского я видел потом у него на квартире, и он оставил хорошее впечатление… Но об этом после. Еще я знал Мочтета (Григорий Александрович Мачтет — русский писатель украинского происхождения, революционер-народник), философа В. В. Лесевича, И. Г. Потапенко (русский прозаик и драматург), П. В. Засодимского (русский писатель), художника Н. Н. Ге… О них после.
6.06. (19.06) 1900 г
Однако, не скоро, дай Бог, доберусь я до времени настоящего… Прошлое меня все обступает и обступает… В нем столько воспоминаний, столько светлых грез!... Вот и теперь вспомнил я студенческие годы своего старшего брата… Очень жалею я о том, что тогда был слишком еще юн, слишком молод, так что все эти воспоминания у меня проходят – как грезы, как славный, хороший сон… Чудная пора была тогда!... Были 70-е годы. «Нигилизм» был в силе… Наружно он выражался во всем: в костюме, в манерах…
Как сейчас помню первые проводы брата в Петербург… Маленький, захолустный городишко Усмань, живущий своими мелкими делишками, жалкими интересами, до которого еле доходили отзвуки бурной столичной жизни и притом часто доходили в страшно превратном толковании. Он впервые выделил из своего общества человека, который захотел увидеть свет, который захотел учиться…
Этот человек был мой брат… Правда, в нашей захолустной жизни, сплошь почти покрытой тиной, и ранее появлялись светлые личности, которые будили молодежь к правде, добру… Но их было мало… В памяти возникает старик-купец Иван Васильевич Федотов, человек хоть и нигде не учившийся, умный, образованный, страстно любивший книгу, глубоко интересовавшийся общественной жизнью… Он-то и повлиял на моего брата… У него-то собирались кой-когда по вечерам молодые купчики, толковали, спорили, читали /7/…
Но продолжаю – брат был первый пионер в области паломничества в столицы и университетские города за знаниям, образованием… Никогда не забуду картину проводов… На станцию ехало масса экипажей, чуть ли не полгорода, провожать брата, как будто бы его отправляли далеко-далеко… Мы, вся наша семья и родственники, рыдали, прощаясь с ним… Нам казалось, что уедет брат в Питер и уж на веки пропадет… Казалось, что мы провожаем его на тот свет… Вот с этих-то пор и начала открываться передо мной новая жизнь… На каникулы брат приехал в шляпе с громадными полями, с громадной охапкой черных кудрявых волос, в крылатке… С собой он привез много новых вестей, необычных вестей, привез книги… Впервые жизнь осветилась с другой стороны, появились новые взгляды, новые вопросы… Появилась любовь, жалость к «студентам»… Потом появились и сами студенты… Один год их приехало человек 20… Сколько споров, сколько разговоров, сколько веселья, самого хорошего веселья!... Особенно в памяти у меня осталось два - Коршунов и П-в… Коршунов уже «пострадал»… Его мягкий голос, добрые глаза памятны мне… Он почему-то относился очень серьезно ко мне, хотя я и был еще мальчишка лет 12-и… Мы «толковали об интеллигенции, о молодежи, о религии» /8/… Помню, он читал мне стихи – «Три смерти» (кажется Майкова А.Н.)… "Смерть Сенека", эпикурейца, а третьего уже не помню. Всему этому прошло уже более 20 лет. Как много воды утекло, как много переменилось!... «Иные ему изменили и продали шпагу свою»…
Семидесятые годы – самые бурные годы… Революционное движение широкой волной разлилось по Руси… Доходило оно и до нас, но часто в уродливой форме… Я вспоминаю, что ходил по деревням какой-то человек (из простых) и возвещал мужикам о какой-то воле и ставил какие-то кресты… Были в это время даже и в Усмани какие-то обыски и аресты… Я знаю, что после одного какого-то ареста наш исправник Доможиров, человек очень порядочный (теперь он умер), не вынес нравственных мук совести и вышел в отставку…
Доходили до нас слухи о Казанской демонстрации… Слышали мы о «Черном переделе», о «Земле и Воле»… Но до чего превратны были у нас понятия… Было время, когда нам казалось, что «социалист» – какое-то особое существо, лохматое, ужасное, что их целая шайка, вербующая к себе на службу людей за очень большие деньги… И вот в таком-то роде… Чем-то страшным, даже прямо-таки ужасным представлялся нам «Исполнительный Комитет», все видящей, все знающий, все могущий… С каждым новым приездом брата все яснее и яснее понималась жизнь, все более и более рождалось вопросов…
Не забыть, со временем сообщить о своем знакомстве: Тюфяева Толиверова (Пешкова) (Неистовая революционерка, известная в России издательница журналов по детской тематике), артист Стрепетов, Н. А. Соловьев-Несмелов (литератор, детский писатель), Кложий, Фрей (пастор), Караулов.
15.07. (28.07) 1900 г.
Сделаю небольшие выписки из своих старых записных книжек…
«В мир брошена идея новая, затрагивающая глубокие умственные и нравственные интересы и целое поколение, а может быть, и не одно будет ее развивать и анализировать, расширяя или ограничивая, пока не найдет для нее полного всестороннего выражения, пока не укажет ей границ»…
«Способность улавливать, угадывать, схватывать аналогии, ускользающие от обыкновенных умов – составляет удел гения»
«Совесть – не что иное, как внутренняя борьба между более или менее укоренившимися институтами, между эгоизмом, выработавшемся в индивидуальной борьбе с альтруизмом, результатом социального института, который в свою очередь вырабатывался из института материнской любви»…
«Ум не должен быть рабом сердца, он должен навсегда оставаться его верным слугой»…
Хотел уже закрыть книжку, как вдруг напал на строки, которые меня глубоко задели… Строки эти написаны 15 лет тому назад, Они говорят о моих идеалах.
«Господи! Не уж-то все те заветные думы, над которыми мы ночи просиживали в молодости, все это с летами уходит не возвратно!... Неуж-то, что казалось нам достижением в молодости, в дальнейшей нашей жизни становится уже не исполнимым. Человек немолодой становится холоднее ко всему, но это все-таки не исключает окончательно стремлений к тем идеалам, на что в молодости он потратил много сил… А как много уже примеров того, что люди с летами сильно изменяются, что они забывают свои заветные думы, или коли и помнят, то только на словах… Нет, я таким не буду! Я останусь верен своим идеалам. Идеалы же мои не туманны, так что их вполне можно исполнить… Вот в чем моя будущая деятельность должна состоять: как ни можно более уплатить обществу за те труды, которые оно на меня положило… Уплата эта может выразиться во многом. Кончу курс, поеду в Сибирь, или в какой-нибудь город. Буду жить среди рабочих, среди трудящейся массы всеми силами буду стараться на пользу этой массы. Если это не удастся, сделаюсь сельским учителем (к этому в сию минуту у меня более всего лежит душа) и буду работать на пользу мужиков… А деятельность учителя гимназии и реального училища… Работа среди молодежи и для молодежи… Разве это не хорошие дела? И так много дорог лежит передо мной… По какой идти?... Я хорошо еще и сам не знаю… Вообще, скажу одно, что жить я буду честно, хорошо… Не буду прибегать к протекциям, не буду глядеть на место только, как на выгодную спекуляцию, как на возможность брать деньги… Нет, прежде всего, это – польза, польза и польза общественная… Прочтет кто-нибудь эти строки и скажет, что это за мальчишка писал? Не знающий жизни, мальчишка вполне обеспеченный… Нет, я не верю в то, что даже, когда и в жизнь войду, когда не будет, кому обо мне позаботиться, я все-таки смогу быть таким, каким я теперь хочу… И это не будет стоить таких лишений… А хороша, дай Бог, эта жизнь, полная живого дела, разумная, честная!... Как легко будет дышаться! А как приятно будет видеть вокруг людей, которые тебя искренно любят, которые уважают тебя, которые видят в тебе опору… И умирать будет не страшно, как пройдет жизненный путь!... К чему все эти религии! Религия человечества, религия христианства – и без этого можно честно и хорошо жить!... Да и к чему эта надежда на какое-то будущее?!... "Счастье будет ощущаться уже при сознании, что твоя жизнь не пустое прозябание было, а честная жизнь праведника. Сознание того, что и после тебя найдутся люди, которые будут тоже работать, как и ты – вот награда, которая будет, пожалуй, выше надежды на какую-то вечную жизнь"… "Так в детстве я мечтал"…
Промчались годы… И пропал тот «идиллический пыл», который так грел душу тогда… Жизнь теперь не рисуется такою розовой… Нет в ней той гармонии, какая представлялась тогда… Просматриваю я свой жизненный путь за эти 15 лет и вижу, что «к правде я стремился», что идеалы, светившие мне тогда, не потускнели еще, но жизнь в силу своих условий наложила свой отпечаток, что того пламени, которое так ярко горело тогда в душе, теперь уже нет… Душу посещают сомнения, мысль уже не может успокоиться на таких простых отвлеченных положениях, на чем она ранее успокаивалась. Я по-прежнему люблю людей, мне по-прежнему страстно хочется внести хоть долю облегчения в те страдания людские, которые переполнили мир… Одно только грустно, что нет веры, той веры, которая двигала бы горами!!!...
«Только в молодости, когда сердце полно великодушных чувств и способно на самоотверженные жертвы, возможно, ждать ответа на все великие вопросы… Мир, в сущности, принадлежит молодым, не только мир наслаждений, но и мир борьбы. Будущее находится в их творческих руках. Им принадлежит наследие веков. Они князья и правители, шейхи и эмиры, генералы и полководцы… Мы слишком много требуем от стариков. Старики могут накоплять и запасать, писать реляции и историю. Это их настоящая сфера. Они – историки. Что касается новых идей, то они им не под силу. Когда такая идея явится и выскажется, старик философ, ветеран экономист, защитник существующих порядков, обливает ее холодной водой и замораживает, указывая на несовершенство мира, эгоизм людей – все то, что делает задачу непрактичной и невозможной».
26.07. (8.08.) 1900 г.
Последние мои воспоминания остановились на моменте отъезда брата в Петербург. Хочу еще немножко задержаться на этом времени.
Передо мной сейчас встают в воспоминании два образа: исправник Доможиров и местный купец Иван Васильевич Федотов. Собственно лично я знаю Доможирова мало – больше по рассказам. Я познакомился с ним позднее, когда он был членом земской управы… Очень симпатичный и благородный тип. В исправники он поступил как раз в то время, когда «Движение в народ» сильно распространилось… И вот ему, человеку благородному, с либеральными взглядами, волей-неволей пришлось «тащить и не пущать»… Он с болью в сердце всегда вспоминает об этих тяжелых моментах в своей жизни… В Усмани ему пришлось арестовать одну акушерку, сделать обыск у знакомого врача, потом где-то на станции заарестовать какого-то проезжающего… По крайней мере, я слышал от него только об этих трех фактах… Как он говорил о них!... Как возмущался дух его!... Наконец, он не выдержал и бросил эту службу… Его с грустью проводили обыватели, поднесли ему альбом с фотографиями… Да и как было не жалеть разлуки с таким гуманным, благородным человеком. Он был хорош не с одними «политическими». В своих административных распоряжениях он стоял всегда на страже правды и справедливости… После отставки он мирно зажил в деревне, выступил на арену общественной деятельности незадолго до смерти. Он был избран земским гласным, а потом и членом управы. Умер он на балу у одного помещика совершенно неожиданно… Танцевал мазурку и в одном «па» стал на колено, но подняться уже не мог. С пола его подняли мертвым…
3.03. (16.03.) 1901 г.
Более полгода я не заглядывал в свой дневник, некогда было… Начну вспоминать, что особенно интересное случилось за это время на моих глазах в моей скромной жизни…
В городской жизни шла усиленно практическая работа – мостили улицы, открыли «Детский дом». «Дом» вышел, недурен – высокий, светлый, уютный… В нем сейчас живет постоянно 5 сирот, а в столовую кормиться ходит более 30 человек. При «Доме» разбили сад. Устраивали парники. Один добрый человек пожертвовал в «Дом» токарный станок. Обещал еще переплетный станок. Начнут понемногу приучать ребят к труду, к работе, и со временем, более менее, удастся создать тот муравейник, о котором я мечтаю… Городские обыватели понемногу начинают интересоваться учреждением и делать пожертвования… А при этом сознавать, что это новое живое дело создано по твоей инициативе, что в нем есть значительная доля твоего труда… И кто знает, быть может, оно со временем широко разовьется. Создастся со временем рабочая колония мальчишек, будет своя школа, своя библиотека, своя мастерская, лавка и так далее... Может быть, не одна здоровая, не искалеченная душа выйдет на свет божий в жизнь из этого светленького домика…
Мне сейчас вспомнилось другое учреждение, создавшееся не без моей энергии и моего труда – это библиотека… Скоро минет 10 лет, как открылась она у нас в городе, а я помню, как сейчас это было. Грязноватую залу Мещанской управы, десяток «почетных» лиц, приглашенных на открытие. Помню себя, в новеньком мундирчике прапорщика запаса, читающим речь. В этой речи я пророчествую о будущих судьбах этого учреждения… И что же, многие мечты мои оправдались. Из душной управной залы мы перебрались в свое «собственное» помещение, устроили книжную торговлю, устроили народные чтения, устроили постоянную сцену, устраиваем музей… Теперь уже и это помещение становится тесным и я постараюсь выхлопотать перед Думой еще новое… Библиотека, книжная торговля, чтения… Сколько воспоминаний грустных и радостных!... Больше, впрочем, грустных… Каждый шаг на пути к достигаемой цели был сопряжен с большими трудностями, с массою недоверия и подозрительности от окружающих их. Это стоило больших затрат нравственных сил… Теперь все это пережито и даже уже многое кажется устаревшим, а тогда… Тогда, например, стоило больших сил добиться разрешения участвовать на чтениях хору певчих, прочесть более интересную брошюру на чтении (брошюру, к слову сказать, разрешенную). Сыпалось масса инсинуаций на народные чтения от местных «охранителей» и не было возможности защитить эти чтения, нападали буквально на все, даже на опечатки в афишах… Писались доносы на торговлю, что она, якобы, распространяет антирелигиозные и антиправительственные книги. Ах, много крови было перепорчено, много бессонных ночей было проведено в страданиях и боязни за гибель созданных учреждений. Теперь все это прошло… Теперь это стоит твердо и принимается как должное. Грустно, что люди, пользующиеся всем созданным, не вспоминают, да даже мало и интересуются прошлым этих учреждений, не желают вспомнить, как трудно и тяжело все это доставалось…
Однако я опять отвлекся… Так, что ж еще интересного было в нашей жизни? Дума постановила открыть 5-й класс в прогимназии, постановила почтить память 40-й годовщины со дня освобождения крестьян.
Вспоминается один и грустный факт – смерть Антона Константиновича Борзобогатого, усманского доктора «Гааза» (Фёдор (Иванович) Петрович Гааз (Фридрих-Иосиф — русский врач немецкого происхождения, филантроп, известный под именем «святой доктор», католик)… Замечательно славный, хороший был старик. Добрый, отзывчивый на все хорошее. Бессребреник чистой воды. Вечно добродушно-веселый, он много лет служил нашему усманскому населению (как города, так и уезда). У него не было врагов… Все его любили… Он отзывчив был к вопросам общественным, любил молодежь, жалел ее. Был оппозиционно настроен к правящим классам… Вообще, на нашем сереньком небосклоне, являлся светлою, яркой звездочкой… Мир его праху!...
Дума почтила его память пожертвованием капитала его имени в общество попечения о бедных. Похороны его были тоже очень торжественные и выделялись из ряда таких похорон… Много венков с хорошими надписями. Много было интеллигентной публики… Раньше этого Усмань не видала…
Ради курьеза запишу. Местный протоиерей отец Василий Иванович Никольский, к слову сказать, относившийся сердечно к Антону Константиновичу, отказался служить панихиды по нему, ибо Борзобогатов был католик, а канонические правила православной церкви не допускают совершения панихид по не православным. Пришлось по телеграмме испрашивать разрешения у архиерея. Разрешение было получено, и панихида случилась. Кстати, об архиерее и его приезде к нам… Но об этом до следующего раза…
30.04. (13.05.) 1901 г.
Надо записать о перипетиях с моим утверждением в городские головы…
До избрания меня в головы, городским головой по назначению был купец А. Н. Сидельников, которого «назначил», как это ни смешно, и не странно, бывший исправник В. Н. Браунштейн, имевший громадную власть и совершивший массу преступлений, но пользовавшийся громадным влиянием на губернатора барона Рокосовского. Комичнее всего, что Браунштейн оказался с подложным документом. И, в конце концов, при странном содействии питерских властей (говорят, что Витте (Граф Сергей Юльевич Витте — выдающийся русский государственный деятель, министр путей сообщения, министр финансов, председатель Комитета министров, председатель Совета министров)), Браунштейн попал в Лондон. А там, якобы, отравился (а может быть, надел новую личину)… Так вот после отставки Сидельникова, как «назначенного», не пользовавшегося симпатией общества, а особенно благодаря своему характеру, был избран я… Тогда Сидельников принял все меры к тому, чтобы мне не быть головой. Он обратился содействию своего родственника, всесильного Константина Смыкова (брата жены). А Константин был всесилен потому, что, будучи солдатом, приглянулся Великому князю Сергею Александровичу (Великий князь Сергей (Се́ргий) Александрович — пятый сын Александра II; Московский генерал-губернатор) и был взят в «гарем» (слух об «особенной любви князя к мужчинам» давно ходил по людям)… Через Константина делалось многое… Пользуясь любовью Сергея Александровича, Константин оказывал многим услуги – выхлопотал награды и прочее… Из любви к Константину Сергей Александрович приезжал даже в Усмань познакомиться с его отцом. Без Константина Сергей Александрович не мог жить. Ехал ли за границу или куда еще он неизменно брал его с собой. Константин пользовался любовью князя, округляя свои средства!... Так ведь к этому-то Константину и обратился Сидельников, и князь принял участие… Когда Губернатор Ржевский проезжал Москву, представляли Великого князя, тот ему сказал: «Я слышал в Усмани хотят выбрать Ф. В. Огаркова в головы… Не советую Вам его утверждать, так как он и вся его семья революционеры»… Губернатор Ржевский заколебался было, но тут мне помог уездный предводитель дворянства Платон Михайлович Охотников (находился в дружественных отношениях с моим отцом). Он просил губернатора не торопиться с не утверждением, пока я не съезжу в Питер в департамент полиции и не выясню свое положение… Ржевский ждал… Я съездил (об этом после), благодаря некоторым связям брата мне удалось уладить дело с департаментом. «Неблагополучность» моя была устранена («снят негласный надзор») и меня утвердили…
28.08. (10.09.) 1901 г.
Однако давно я не заглядывал в мой дневник!...
Четыре месяца промчались, как один день и мне некогда было заглянуть в эту книгу!
Итак, на чем я остановился?.... Да, на архиерее… Приезд его был первым искусом на моем «служительском поприще»… Как сейчас помню – это было в первый год моей службы. Заходит как-то ко мне протоиерей собора и сообщает, что «к нам едет архиерей». Фраза эта напомнила мне Гоголя. Как мы будем его принимать?... Вот важный вопрос… Протоиерей обещал подробно разузнать обо всех симпатиях и антипатиях архиерея и сообщить мне… Как его встретить – с хлебом-солью или нет? Какую рыбу варить ему? Что он любит пить?... И прочее… Все эти вопросы столь важны, что от них зависит многое!... Был канун какого-то праздника. Шла всенощная. Протоиерей пригласил меня в алтарь… Служба уже кончалась, в церкви был полумрак. Протоиерей благоговейно стоял за престолом… Я стоял у стены и ждал… Наконец, служба кончилась… «Узнал, все узнал!»… Радостно заговорил протоиерей: «Епископ очень любит карасей. Хлеб-соль тоже следует»… «Так вы уж, пожалуйста, постарайтесь!... Да, еще любит он хинную водку»… Все – и хинная водка, и караси, и хлеб-соль своевременно были доставлены. Архиерей остался очень доволен угощением, благодарил… Благодаря такому приему, мне пришлось выслушать много благодарностей и признательности в любви и духовном расположении… Эх, если бы я был художником! Какие бы жанровые картинки мог я изобразить! Например, служение домашней всенощной…Для этого призывался особый священник – отец Николай Андреевич Тихонравов. Который умел «хорошо» (по выражению самого священника) служить и скоро, и все ясно произнося… Вспоминается другая картинка – ухаживание иереев за молоденьким архиерейским служкою, с выдачей ему наград и выпытывание у него важных сведений об архиерее… Вспоминается вспышка по поводу неодобрительного отношения архиерея к земской школе и к ее учителю (пригородная детская школа, учитель Взоров). Из этой истории интересней всего то, что те самые иереи, которые при архиерее расстилались в любви ко мне и уважении, после отъезда архиерея, набросились на меня. За то, что я не отношусь сердечно к церковно-приходским школам, а люблю только земские школы… Да много веселых мыслей возбудил во мне приезд этого иерарха… В общем, он на меня произвел все-таки приятное впечатление своею простотой, добродушием, отсутствием ханжества иезуитства и, пожалуй, равнодушия к церковно-приходской школе… Зато, до чего смешно пошлы и гадки, показались местные духовные пастыри в своем угодничестве, унижении, подхалимстве перед владыкой!...
8.08. (21.08.) 1902 г.
Прошел год после последних записей. Что же нового, интересного за это время сделано и случилось?... Моя служба городу подходит уже к концу… Буду ли дальше служить – это еще вопрос… Что же сделано за эти четыре года?... Многое, но еще более многое ждет своего осуществления!... Устроены мостовые на главных улицах, устроен «Детский Дом» и столовая с садом. Правильно организована медицинская помощь населению с особым думским врачом. Значительно расширено помещение библиотеки и пристроено помещение для чайной, организуется музей школьных пособий, так что теперь создается «Народный дом» (библиотека, чайная, книжная торговля, народные чтения, читальня, сцена, музей), приобретена и устраивается бойня, возводится и частично устроена каменная ограда около городского сада. Воздвигаются новые городские постройки… Совместно с Земством устраивается ремесленная школа И.М.Д…. Сделано, как видно не много!... А как много еще надо сделать и в области благоустройства, санитарии, народного образования…
12.08.(25.08.) 1902 г.
Опять предаюсь воспоминаниям… Мне хочется записать мои мимолетные встречи и с некоторыми писателями. Надсона (Семён Яковлевич Надсон – русский поэт) я знал живым. Я жил в Питере как раз во время травли на него, устроенной Бурениным (Виктор Петрович Буренин – русский театральный и литературный критик, публицист, поэт-сатирик, драматург). Я негодовал!... Когда в Петербурге на страницах «Нового времени» выливались на бедного поэта целые моря грязи, инсинуаций, клеветы, Надсон умирал в Крыму… Наконец, жизнь молодая угасла… Тело поэта было привезено в Петербург и похоронено на Волковом кладбище. Я помню толпу молодежи, явившуюся на вокзал за гробом Надсона… Много было и писателей… Мы, учащиеся, брали гроб на плечи и понесли… Помню, гроб был свинцовый, тяжелый, он сильно резал плечи, но это ничего, мы мало замечали это. Нам страстно хотелось хоть этим выразить любовь к погибшему поэту… Студенты организовали хор… Дорога была длинная… Толпа росла… Масса венков… А вот и кладбище… Вот и могила… Опустили гроб, засыпали землей и снегом… Первым говорил Гайдебуров (Павел Александрович Гайдебуров — русский общественный деятель, революционер-демократ, либеральный народник, журналист, литератор, редактор издательства «Недели»)… Он плакал. Мы все тоже плакали… Мне было жаль Надсона, как своего близкого, родного, я долго крепился, но не выдержал, зарыдал… Гайдебуров говорил о загубленной страдальческой молодой жизни, о чистой, светлой личности поэта. Вся его речь была – сплошной вопль отчаяния… Вторым говорил поэт Абрамович (Николай Яковлевич Абрамович, псевдоним Н. Кадмин — российский литературный критик, прозаик, поэт и публицист), его симпатичные стихотворения произвели на всех сильное впечатление. Поэт до того был взволнован, что в конце концов чуть было не упал, его поддержали. Фофанов (Константин Михайлович Фофанов — русский поэт) рыдал над могилою и только и говорил: «Надсон! Я не знал тебя, но страстно любил тебя!»… После этого говорили и еще речи, а потом читались стихотворения Надсона… Молодежь усиленно просила Гайдебурова прочитать «Друг мой, брат мой!». Но Гайдебуров смутился и отказался (тогда стихотворение это считалось неблагонадежным) прочитать его… Тогда прочитал его один студент… На этих похоронах я впервые видел известных русских писателей…
Михайловский (Николай Константинович Михайловский — русский публицист, социолог, литературный критик, литературовед, переводчик; теоретик народничества), Гаршин (Всеволод Михайлович Гаршин — русский писатель, поэт, художественный критик) и многие другие были здесь… Особенно в памяти остался у меня Гаршин… такого прекрасного лица я никогда не видел, да и увижу ли?... Он стоял в хорьковой шубе, опушенный инеем и читал стихотворение Я. Полонского «На смерть Надсона»… Читал по памяти, без особой вычурности, «спотыкался», часто повторял некоторые строфы, но все-таки у него выходило все замечательно хорошо, тепло, душевно… такого доброго, симпатичного голоса я никогда не слыхал… Смерть Надсона глубоко отразилась в моей душе… Я грустил и тосковал о нем, как о родном брате или близком друге… Когда я сообщил свои душевные муки, а так же и о факте смерти Надсона, вырезки из газет со стихотворением на его смерть в Воронеж своим знакомым (хозяйкам моей гимназической квартиры), они тоже сильно грустили, и даже прямо-таки рыдали… Да и трудно было не рыдать… Такая светлая личность! Такой талант!... Смерть в ранние молодые годы, да еще и омраченная страданиями по случаю гнусной травли со стороны Буренина… Вот что писалось в то время: «Вот и еще смерть… Умер молодой, многообещающий поэт, бессовестно облитый грязью мерзавцами… Надсон умер на 25-м году жизни. «Отцвел, не успев расцвести!»... Да, он много обещал… В эти годы он уже сильно выразил свою талантливость… Все его произведения вырывались прямо из души, все они прочувствованы, отчего в части этих произведениях замечается противоречия… А все-таки, как больно, как обидно – такой молодой, и умер!... А еще много обещал!... Правду сказал Скабичевский (Александр Михайлович Скабичевский — литературный критик и историк русской литературы либерально-народнического направления), что над нашими поэтами лежит что-то роковое – все они умирают, не успев постигнуть полного расцвета!...
Теперь о Гаршине. Его я видел еще три раза – на вечере, устроенном в 40-й день после смерти Надсона, больным, и, наконец, на смертном одре… Какая же это светлая, чистая личность. Сколько в нем душевной красоты!... На вечере он был распорядителем… Он был так мил и хорош с нами, молодежью. От него веяло такой чистотой, правдой, что быть около него, слушать его, смотреть на него было такое счастье, такая радость!... Во второй раз (с похорон Надсона – третий раз) я встретил его на Невском проспекте уже омраченного болезнью. Он шел под руку с женой (она его вела)… На нем была распахнута та же хорьковая шуба… Они шли быстро… Ах, какое страдание было написано на лице Гаршина!... Так и казалось, что скорбь всего мира, слезы всех обиженных, всех обездоленных вошли в душу этого святого человека и заставляют его терзаться и страдать… Да, эта душа, это сердце страдало за весь обездоленный мир. И поэтому человек не мог вынести всего душевного ада, он не мог жить, и он погиб… Вскоре после этого свидания я увидел его мертвым (он жизнь кончил трагически – бросился с четвертого этажа в лестничный пролет)… Лицо было также прекрасно, как и в светлые минуты жизни… Казалось, он нашел, наконец, то, чего добивался всю жизнь – средство спасти всех страждущих и обремененных. Его тело все утопало в цветах и венках. В руках у него был красный цветок – эмблема счастья человечества… У его изголовья сидела старушка – его мать и рыдала… У всех входивших и выходивших были на глазах слезы… В комнату вносили все новые и новые венки, как знак выражения искренних чувств к погибшему человеку…
13.08. (26.08.) 1902 г.
Возвращаюсь опять к Надсону. В моей записной книжке написано: «Да, теперь нет его, нашего милого, дорогого Надсона! Уже теперь не услышим его милую речь… «Облетели цветы, догорели огни!»… Я не знаю почему, но мне ужасно жаль его… Занесу в свою памятную книжку еще маленький факт – вечер в память Надсона. Он оставил глубокие впечатления во мне… Здесь я вполне насладился. Сколько было чистого, хорошего, честного! Сколько поэзии, красоты!... Да, хорошо, шумно было!... Все залы освещены… Живые разговоры, хорошие споры… А там, за городом, на кладбище одиноко спит он, герой нынешнего вечера, нам дорогой юноша-поэт! Темно, тесно и холодно там, но он ничего этого не чувствует… Не слышит он и тех похвал, которые в таком изобилии сыплются сегодня на него… Когда был жив человек, страдал и мучился, тогда о нем почти молчали (даже допустили клевету) и как только умер, тут и пошли и восхвалять, и слезы лить… Да, если бы ты, дорогой юноша-поэт, знал, что мы делаем теперь! Ты не сказал бы, что в благодарность ты слышишь только тихое молчание, «да чье-то теплое пожатие руки»… Нет, здесь был устроен апофеоз тебе!»…
Теперь я вспоминаю этот вечер. Читали: Мережковский (Дмитрий Сергеевич Мережковский — русский писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ, общественный деятель), Вейнберг (Пётр Исаевич Вейнберг — русский поэт, переводчик, историк литературы) чудно прочитал: «Бесконечная нелепость», «Развернул передо мною!»... Плещеев (Алексей Николаевич Плещеев — русский писатель, поэт, переводчик; литературный и театральный критик) прочитал «Умерла моя муза»… Плещееву были устроены грандиозные овации… Был Засодимский и еще кто-то из писателей. В артистической комнате шли споры, беседы, говорили горячие речи… Остается вспомнить еще события из моей студенческой жизни. 25-летний юбилей освобождения крестьян, 25 лет со дня смерти Добролюбова, и еще несколько событий из моей студенческой жизни, но это после…
20.09. (03.10.) 1903 г.
Больше года прошло с тех пор, как я не заглядывал в свой дневник… Я боялся, что ко мне в дневник заглянут непрошенные гости и отнимут его, поэтому на время я удалил его от себя… Теперь, как будто, опасность миновала, и я вынимаю из-под спуда мою заветную тетрадь… Много интересных фактов совершилось за этот год и их надо вспомнить. Но не надо забывать и поставленных на очередь воспоминаний… Одно из самых интересных событий истекшего года - поездку в Саров и встреча государя, приезд архиерея Иннокентия в город… В городских делах открытие VI и V классов прогимназии, закончили работу по постройке ремесленного училища, постановление думы об открытии воскресной школы, перемена состава думы, мои вторичные выборы. В гласные я был избран громадным числом. Жаров – налево получил только 4 голоса и был избран первым по порядку гласным. В головы из 28 голосов получил 24 (вообще, налево 4). Состав думы не сильно изменил и ко мне отношение, но в общем, должен сказать, с думой отношения остались хорошие. Для губернии новости – новый губернатор фон дер Лауниц, бывший уездный предводитель дворянства Харьковской губернии, при новых выборах забаллотированный дворянами. Был назначен сначала Архангельским вице-губернатором, а потом и Тамбовским губернатором. По словам Плеве (Вячеслав Константинович фон Плеве — российский государственный деятель. Статс-секретарь, сенатор, действительный тайный советник ) – «человек с железными руками», грубый, энергичный, с крайне обскурантскими взглядами. Его выражения: «Для английского скакуна нужен хлыст, а для российской клячи – кнут, и хороший кнут!»… «Произвол не всегда беззаконен, а иногда он очень необходим и обязателен.
И потому без смущения его можно применять»./9/
Пока о настоящем ограничусь сказанным и перейду к прошлым воспоминаниям.
Я был студент Горного института. На лекции химии (профессор Супин – преинтересный человек, надо о нем вспомнить) мне подсунули листок, приглашавший на панихиду по деятелям освободительной реформы 1861 г., по случаю исполнявшегося 25-летия… Эта первая демонстрация, в которой я участвовал. Народу (учащейся молодежи) собралось не много. В виде протеста мы решились идти демонстративно по Невскому проспекту. Прошли мимо дома градоначальника и мирно разошлись никем не арестованные и даже мало замеченные. По дороге пелись песни, и встретившемуся народу объяснялась причина такой демонстративной прогулки. Народ очень равнодушно относился ко всему этому. Это было 19 февраля 1886 г.
Вторая, более крупная демонстрация была в ноябре 1886 года по случаю исполнившегося 25-летия со дня смерти Добролюбова.
22.09. (05.10.) 1903 г.
Выписки из моих студенческих записных книжек 1886-1887 гг.
«Во все времена были распинаемы и обличаемы в профанации реформаторы, а не светские вольнодумцы» (Вебер (Максимилиан Карл Эмиль Вебер, известный как Макс Вебер — немецкий социолог, философ, историк, политический экономист). История европейской философии).
«Ведь мы, в сущности, живем нравственно одиноко. Особая метода воспитания или случайно выбранная книга дают характеру каждого из нас особое направление. Каждый из нас под своей нравственной личиной думает, чувствует и стремится иначе, чем другие. И недоразумений становится так много, и даже в просторных домах жизнь становится, так трудна. И мы так всюду стеснены, так всюду чужды друг другу, так всюду на чужбине!... (Из «путевых картин». Гейне, стр. 111).
Я хорошо помню 17 ноября 1886 года. Как сейчас помню улицы Петербурга, прилегающие к Волкову кладбищу… Конки брались с боя. Все они были переполнены учащимися, студентами, просто интеллигентными лицами. Кондукторы отказывались двигаться с вагонами… С полицией происходили мелкие стычки… Мы добились мест на конке и двинулись…
Вот и Волково кладбище… Перед ним вся площадь залита народом… Тут учащаяся молодежь, писатели, профессора, просто интеллигентные люди… В толпе видно много венков. Ворота кладбища закрыты и охраняются полицией. В толпе шум, крики, говор… Все возмущены, что не позволяют отслужить панихиду по Добролюбову, не позволяют возложить венки… Посланы запросы к градоначальнику Грессеру… Все напряженно ждут ответа… А толпа все прибывает. Наконец пришло разрешение возложить только венки. Ито отдельным лицам, а не всей толпе. Панихида была запрещена… Толпа возмутилась. Какой-то студент-медик влез на ворота, и говорит негодующую речь. Его стаскивает полицейский чиновник… После долгих пререканий, толпа, наконец, решается отправить депутатов с венками, чтобы возложить их на могилу… Вот открываются ворота. Толпа обнажает головы… В ворота стройным порядком двигаются депутаты с венками. Тут и курсистки со скромными венками из хвои, и студенты всех учебных заведений с громадным металлическим венком, и интеллигенты с роскошным. Счесть венки трудно, так как их много… Слышится торжественное грустное пение «Вечной памяти». Могуче стройно раздаются звуки из тысячи грудей и разносятся на далеко по Питеру… Полиция стройными шеренгами стоит недвижимо перед толпой… В толпе все сильней и дружнее раздаются в адрес полиции голоса: «Шапки долой!». Гул стоит над площадью… Вот возвратились депутаты, возлагавшие венки. Ворота опять запираются. Что же делать? «В Казанский собор!» – кричит толпа… И вся многотысячная толпа движется по направлению к Невскому проспекту… Вдали от толпы идет взвод полицейских… Могуче раздаются звуки революционных песен… Встречный народ расступается, расспрашивает. Иные из любопытства, другие с искренним чувством пристают к толпе и она все растет и растет… Всюду шумные разговоры, споры, все весело, все радостно… Вот близко и Лиговский канал, а там и Невский… А там Казанский собор и всем ясно вспоминается знаменитая «Казанская демонстрация», это первая попытка серьезной общественной демонстрации с политическим направлением. Вдали показывается коляска градоначальника Грессера. Он приближается к нам, выходит из коляски. Весь любезность, весь предупредительность. Он убеждает нас остановиться, разойтись… Мы спорим, требуем дать нам право отслужить панихиду… Наконец, он соглашается и обещает сейчас же привезти ответ из министерства внутренних дел, если там позволят, он понятно, протестовать не будет, он просит нас подождать… Мы были очень наивны, поверили ему и ждали. А в это время, было дано знать, куда следует, о прибытии казаков и полиции… Долго мы ждали и наконец, решили идти… Вот уже мы вышли на Лиговский канал, близко Невский… «Казаки едут!» – раздался крик… Толпа вздрогнула… С казаками связывается представление о нагайках, о лошадиных копытах, о побоище… Все устремили взор вперед… Да, действительно казаки!... Вот они разделяются на две части. Одна заезжает нам в тыл, другая идет прямо на нас… Толпа встрепенулась. Все сомкнулись поплотнее. Курсистки и вообще женщины вышли вперед. Толпе недолго пришлось двигаться, ее остановили. С тыла и впереди осадили ее казаки и полиция, слева путь заграждал канал, а справа высокая, глухая стена с двором какого-то дома. Укрыться было негде, двор был наполнен полицией. С той стороны Лиговского канала стала собираться толпа. Начались переговоры, шутки, остроты. В общем, народ настроен был благодушно по отношению к демонстрантам. Предлагали закуски: хлеба, фруктов, и прочее… Но скоро толпу разогнали и выставили караул. Мы стояли, не зная, что с нами будет. Проходил час, другой, и нам никто ни чего не говорит, но нас не выпускают… Была обыкновенная промозглая Питерская погода. Становилось холодно, ноги промокли, с неба сыпалось какая-то слякоть… Начало смеркаться… Проходит три часа, четыре… Наконец, приезжает Грессер, но уже не тот, какой был ранее… Этот груб, дерзок, криклив. Все время его окружала полиция, и он не боялся оскорблять публику. Всякого мало-мальски протестовавшего он моментально арестовывал… Были случаи, когда толпа спасала протестантов. Так один господин заступился было за оскорбленных женщин. Гессер приказал его арестовать, но толпа его защитила. Его быстро переодели и оттерли от Грессера. Так же было и с одной курсисткой. Но все-таки, в общем, было много арестованных и высланных из Питера. Грессер держал нас до поздней ночи, выпуская по 5, 10 человек… Наверное, много народа заболело от стужи, от сырости…
Я не попал в число арестованных. Когда я пришел на квартиру (я жил у брата),/10/ то застал такую картину – брат сидел у моего сундука и рылся в вещах. Он был уверен, что я арестован, и что сюда явятся нежелательные гости. Поэтому хотел избавить меня от всего компрометирующего. 17 лет прошло со дня этого события, а я его ясно помню, как будто только вчера оно совершилось… Несмотря на неудачу, на неопытность и все прочее, я все-таки и теперь вспоминаю эту светлую полосу моей жизни с чувством глубокого удовлетворения.
Все это было так жизненно, так глубоко сердечно, душа была далеко от житейской пошлости, она вся горела любовью к Родине, к ее обездоленным сынам… Этой демонстрацией хотели напомнить обществу его гражданские обязанности…
Вспоминая светлую личность Добролюбова, вспоминали погибших его последователей. Демонстрацией хотели протестовать против того ужасного гнета, который царил на Руси… Да, годы моего студенчества как раз совпали с годами «безвременья», с годами «восьмидесятников, с годами «малых дел»… Прошло 17 лет и как далеко ушла Русь в развитии самосознания!... Прошли и годы «безвременья» и страшной реакции – ничто не помогло… Потока сильного никакими запрудами не остановить – он все ломает на пути… Да, какою маленькой кажется Добролюбовская демонстрация, сравнительно с теперешними демонстрациями... Какой громадный район захватило теперь недовольство режимом!... Рабочий класс медленно, но энергично выступает на поля русской истории и уже начинает диктовать свои требования. Правда пока ему отвечают «штыками и пулями»… Добролюбовская история – это дело рук интеллигенции и одной только интеллигенции… А теперешняя демонстрация – это дело рук самого народа… Сколько воспоминаний всколыхнула эта история во мне!... Мне хочется говорить о «восьмидесятых годах», о встречах и знакомствах, о настроениях… Но поздно. Поговорю после об этом.
23.09. (06.10) 1903 г.
Опять выписки из студенческих записных книжек 86-87 годов.
«Но и духа есть свои вечные права: его нельзя ни сковать уставами, ни убаюкать колокольным звоном. Он сокрушил свою темницу и оборвал железные помочи, на которых его водили, и в упоении свободы помчался по всей Земле, то взбираясь на вершины высочайших гор, то кичливо ликуя, то снова припоминая древние сомнения, то испытуя чудеса дня, то считая звезды ночи. Мы еще не знаем числа звезд, не разгадали еще чудес дня, старые сомнения разрослись у нас в душе и больше ли теперь в ней счастья, чем прежде. Мы знаем, что на этот вопрос, если он касается большинства, не легко ответить утвердительно, но мы знаем зато, что счастье, которым мы обязаны лжи, не есть истинное счастье и что человек в несколько мимолетных мгновений более свободного, более божественного состояния испытывает столько счастья, сколько не испытывал бы в долгий век, прозябая в душных, темных понятиях (Из «Путевых картин» Гейне. 111-112).
Вчера я затронул вопрос о «безвременье»… Правда, моя студенческая жизнь, которая пришлась на этот грустный период общественной жизни… Последние могикане борьбы за лучшее будущее погибли в бою… На Родину стала надвигаться туча реакции… Сверху раздалось: «Довольно!»… Вся честная печать была задавлена. Реакция все раздвигала и раздвигала свои рамки. Как спрут, она обвивала своими щупальцами все светлое и живое и душила без пощады… Закрыты были «Отечественные записки», закрыто «Дело», арестован Станюкович (Константин Михайлович Станюкович, — русский писатель)… Цебрикова за «Письмо к Александру III» сослана… Была наложена лапа на самоуправления (ИМС городское)… Везде и всюду чувствовалась апатия, усталость и разочарование… Всюду стали говорить, что работа радикальная ни к чему не привела. А только отняло массу прекрасных работников, честных, могучих. И что теперь «не время широких задач», что надо делать «маленькие дела», «культурные дела»… Л.Толстой громко стал проповедовать свое «непротивление злу насилием»… Появились толстовцы, все прощающие, все претерпевающие, появились толстовские колонии… Молодежь разделилась на «восьмидесятников», «радикалов», «культурников», «толстовцев»… Стали организовываться нелегально «легальные» библиотеки студенческие, кружковые… Книжки народные, улучшенные, стали рассылаться по деревням, по больницам, по организациям… К этому времени надо отнести начало издательства народных книг с легкой руки Л.Н.Толстого. Так как бурная оппозиционная работа была почти совсем подавлена. И только тихим незаметным ручейком журчала где-то там далеко, под землей. То большинство хорошей молодежи отдалась толстовству и культурничеству… Начинают опять создаваться небольшие кружки самообразования, земляческие кассы, библиотечные кассы… Лучшую часть молодежи, конечно, это не могло удовлетворить и она искала другие пути, более широкие… К библиотечным кассам она присоединяла кассу для нелегальной литературы. Которая главным образом набиралась из старой литературы, да из заграничной (новой выходило мало, да и какая выходила, была очень не интересная). К земляческим кассам присоединялись кассы для политических ссыльных… Но вся эта работа была маленькая, без широкой программы, не объединенная… Кружки саморазвития, конечно, постепенно, переходили в кружки для разработки вопросов общественного характера (изучению К.Маркса, общины, земских соборов, истории России)… Словом, сама реакция толкала к крайностям противоположным… Грустно было то, что старые оппозиционные программы были разбиты в пух и прах. Те энергичные борцы за проведение этих программ все почти по тюрьмам, в ссылке, в крепостях и прочее. Оставалась ничтожная горсть, не обладавшая силою сплачивания… Вера в программу «Народной воли» пропала, новой не было создано, и люди шли в разброд, шли и гибли, гибли в одиночку… Было тяжело и грустно смотреть на это. У меня было несколько приятелей. Пиотровский, замечательно симпатичный юноша – поляк. Он повесился в доме предварительного заключения. Другой – Анатолий Перфильев – это высоко светлая и гуманная личность, жаждавшая света, искавшая его. Тоже погиб – отравился (о нем вспомню когда-нибудь)… И много таких чудных людей погибло – кто в тюрьме, кто в ссылке, а кто и сам с собой кончил… Жажда объединяющей программы мучила всех… Все того хотели … И вот началась работа… Кружки саморазвития, земляческие кассы, студенческие библиотечные общества стали объединяться. Почва для этого была легальная – общность культурных интересов, общестуденческих интересов и как оппозиционный элемент помощь политическим ссыльным и заключенным. На организационных собраниях эти общественные единицы участвовали через своих делегатов… Собиралось человек по 30-40… Шли дебаты, споры, вырабатывалась объединительная программа… А «недремлющее око» не дремало и более энергичный и лучший элемент из среды делегатов высылался, арестовывался… А «программа объединения» не шла дальше 3-4 параграфов… Менялись делегаты, менялись параграфы. И в конце концов общего дела было мало. Разве только в выработке общестуденческих вопросов, да помощи политическим… Студенческие беспорядки были, но академического характера… Особенно сильное движение было в 86-87 годах. Когда все высшие учебные заведения восстали и даже такие привилегированные, как путей сообщения, горный институт, строительный институт… Ах, какая светлая хорошая пора!... Никогда я ее не забуду… Шумные сходки студентов в учебных заведениях. Споры горячие, до слез, до раздражения. Постоянно возбужденное настроение в ожидании делегатов от разных учебных заведений, тайные сходки этих делегатов… Сильно повышенная атмосфера душевных отношений… Вечное ожидание грозы… Я помню один вечер, когда собрался наш небольшой, но дружный кружок. Мы были сильно скомпрометированы и ждали развязки… Мы собрались на прощальную «Вечерь», мы расставались навсегда, и грустно было нам, а в тоже время и испытывалось ощущение приятное – ты страдаешь… Мы строили планы того, как начнется наша «новая жизнь» при более стеснительных условиях… Ах, сколько наивности было в этих планах. И в тоже время столько и твердости, и готовности переносить эту трудную, тяжелую жизнь… Конечно, мы обещались не прерывать отношений, делиться мыслями, чувствами, а в случае и материальной помощью… Я как сейчас помню этот вечер – было собрание кружка донского землячества. Все казаки молодые, здоровые, веселые… Среди них несколько и нас, «казаков» /11/… Судьба раскидала нас далеко. Один товарищ (горный инженер Наливкин В.А.) утонул в реке Донцы на геологических работах, другой – Григорьев, умер в нужде и нищете. Я городской голова. Один в Манчжурии… Еще один (Селиванов) умер от чахотки, Пиотровский – повесился в тюрьме… Все это было давно и быльем поросло!... В это время, «безвременья», одни только страдания давали удовлетворение наболевшей, исстрадавшейся душе. И поэтому-то так много было жертв, самоубийств. Жертв политических за ничтожные сравнительно проступки. Но широкого, могучего дела, вроде дела 70-х годов, не было… Я говорил, что ручей живой воды бился и понемногу из-под земли выходил наружу. Это была работа на фабриках и серьезная культурная работа… Но об этом после…
17.03. (30.03.) 1904 г.
Судьба человека неисповедима… Думал ли я, когда писал последние строки в сентябре, через 5-6 месяцев попасть в больницу… Да, я в больнице… Первый день больничной жизни… Жутко это!... Однако, как толкает меня судьба. От семьи, от родных попасть в такую тяжелую обстановку. Правда, тяжесть несколько сложившейся теми обстоятельствами, что мой брат /12/ служит в этой больнице, и те средства, имеющиеся у меня, дают мне возможность поместиться в отдельном номере… Я в больнице, и еще накануне операции… Думал ли я? Ожидал ли этого? Нет! Никогда!... Я всегда со страхом и ужасом воображал те страдания, которые испытывают оперируемые, а теперь их самому, быть может, придется испытать!... Тоска! Тоска и тоска!... Теперешнее мое положение напоминает мне давнишнее прошлое, когда я записался вольноопределяющимся в полк… Накануне отправки в полк я испытывал такое же волнение, какое теперь… Что меня ждет? Вернусь ли я бодрый, с новыми силами домой? Или жизнь военная искалечит меня, расшатает мои нравственные устои…
Теперь тоже самое… Роятся разные вопросы… Вернусь ли я домой вообще? Или, быть может, вернусь, но искалеченным, никуда не годным инвалидом?... Да, все это грустно и скучно… Первый день прошел скучно и тоскливо, как и все будущие, думаю… Днем лежал и читал, тоже делал и вечером. Номер у меня маленький, света в нем, впрочем, достаточно. Сосед у меня – старик-морфинист. Против меня – лакей какой-то графини Зубовой. Есть студент. Еще раковой болью – умирающий…Наверное, со временем с ними познакомлюсь. Брат Саня зашел ко мне подписать списки умерших. Всего в больнице и приюте умерло 5 человек… И как все просто делается… Записали, расписались и все кончено. Статистические цифры передвинулись. В одном месте убавилось, в другом прибавилось и только… А за всем этим скрывается жизнь – радости, мучения, страдания, надежды… В общем, больница делает приятное впечатление. Все просто, незаметна роскошь, но сердечно, хорошо… Вечером в больнице приятнее… Тихо так. Тени падают от мебели, абажуров…Все это смягчает неприятное, сильно страдающее… Вот перед иконой молится больной, а вон там читает газету. Здесь в кружок собрались больные и читают книжку… А там вон уже спят… А, может быть, и не спят, а так, лежат и думают, свои грустные думы… А вот лежит недавно оперированный… Но и на него тусклый свет лампы кладет мягкий отпечаток… Вот скоро, быть может, и я буду тоже лежать без движения, с сильным румянцем (от жара) на щеках, с тяжело дышащей грудью… А, может быть, и совсем без всяких движений, белый похолодевший труп мой будет в мертвецкой ожидать своей очереди для вскрытия… Больница затихла… Изредка слышится кашель или вздохи… Все погружается в покой и тишину…
19.03. (01.04.) 1904 г.
Третий день моего пребывания в больнице на исходе… Перемен в моем положении мало. Доктор как-то лениво «изучает» меня. Я тоскую. Оторванный от большой семьи близких людей, от обычного дела, я тоскую… Теперь только я могу постигнуть тот ужас положения людей, находящихся в одиночном заключении… Я, сравнительно свободный человек, имею сношение с внешним миром, читаю газеты, книги, журналы, вижу людей, а и то тоскую, когда остаюсь один… Что ж должны испытывать они, бедные?!... В нашей больничной колонии большие перемены. Один умер, один выбывает (переезжает в Крым). На их место поступают два студента (один нервный, другой оперативный)… Колесо идет своим чередом – испортившиеся спицы заменены другими и только… Сиделка говорит: «Как покойника вынесут, так вымою номер, и вот он к завтраму будет готов для других». Может быть, и про мой номер, да и про меня также будут говорить через неделю-другую… В статистических цифрах больницы изменятся цифры, убавится число обитающих и только… А между прочим, это целая жизнь, со своими надеждами, со своими страданиями, горестями и радостями!... Вот также позавчера Санек приводил в сознание одного больного. Всю ночь хлопотал над ним и все-таки не добился своего – больной умер… А был, по словам Санька, крепкий, сильный мужчина… Около меня лежит мужчина, которому два раза вскрывали брюхо. Никто не надеялся, чтобы он был жив. Даже доктора отказывались от второй операции, а больной сам умалял. «Все равно так мне не жить» (у него образовался желчный свищ)… И теперь, кажется, слава богу, поправляется – пятый день после операции истекает благополучно… Подай ему боже поправление… Он человек труда, рабочий человек…
24.03. (06.04.) 1904 г.
Перемен в нашей жизни мало. Все вошло в колею. Каждый день является доктор, фельдшерица. Каждый день слышится церковное пение из больничной церкви (великопостная служба). Два соседних номера опустели, как я уже писал, один обитатель умер, а другой уехал в Крым… У меня сейчас в глазах картина «уноса» покойника из больницы… Я пришел часов в 8 вечера в больницу… «Все у нас благополучно?» - спрашиваю сиделку. «Не совсем»… «Раковый умер?» - «Умер часов в 7»…
Бьет 10 часов вечера. В больнице все затихает… Только наш коридор живет какой-то особенной таинственной жизнью… Огни в коридоре горят тускло. Я загасил у себя в номере лампу. Тихо прокрадываются тени – рабочих, няней. Идет бесшумная работа, но какая-то мрачная, таинственная… Вот пришел «Потрошитель» (фельдшер, заведующий мертвецкой). Тихо бесшумно пронесли носилки. В номере покойного идет работа. Наконец, часов в 11 вечера бесшумно вынесли носилки… Все это невольно навело на грустные, тяжелые мысли… Придет час, может быть, даже очень скоро, когда и тебя также понесут в носилках и отдадут в распоряжение «Потрошителя»… Вчера делали операцию студенту (вскрывали гнойник, кажется в грудобрюшной преграде)… Кажется, сделано было все благополучно. По соседству ко мне переселяется, кажется, студент… Наверное, познакомимся.
30.03. (12.04.) 1904 г.
Сколько времени, однако, не писал я в свой дневник… И сколько изменений и несчастий произошло за эту неделю в моей жизни… Страшная болезнь мамы – потеря зрения, арест Сани… Как тяжелый камень обрушилась на мою голову и душу эти несчастья!... Какое из них страшнее и тяжелее, я затрудняюсь сказать!... Санька в ночь с 22 на 23 дежурил в больнице… Он до 9 ½ часов вечера сидел в моем номере… Я собирался идти к нему чай пить, да почему-то не собрался… Так я его больше не видел. Ночью в 2 ½ часа явилась полиция, обыскала его дежурную комнату. И арестовав его, повезла на его же квартиру, где в это время шел повальный обыск… Смотрели все – сундуки, ящики, игрушки, кровати, стены, выход и т. д., и т. д… Не постеснялись даже обыскать спящую маленькую дочку брата, ее кровать. Для чего спящего ребенка переносили с одной кровати на другую… Раздевали жену брата и тоже обыскивали… Словом, после их ухода было чистое Мамаево побоище. Брата увезли в Санкт-Петербург. Зачем и за что? Неизвестно!... Брат последние годы усиленно работал в больнице, страстно увлекаясь медициной, отдавая ей почти все свое время, оставляя для семьи, горячо им любимой, минуты… А теперь его оторвали и от любимого дела, от семьи и бросили в каменный мешок, быть может, забыв о нем (вот уже прошла неделя со дня ареста, а о нем нет никаких вестей)… Больные (более 40 человек) остались без серьезного вдумчивого врача, честно относившегося к больным, к своему делу… Как тепло о нем вспоминают они!... Один даже записал его в поминание… И опять, на душе закипает злоба… Зачем поступать так жестоко! Ведь не скрывался же ни от кого он, зачем же арестовывать, ведь не убежал бы он от своей семьи, от только что полученной должности!... Сделали обыск, ничего не нашли, ну и оставили бы в покое… Ну, даже, наконец, взяли бы на особый надзор, обязали подпиской о невыезде… Но зачем же арестовывать? Зачем портить человеку карьеру!... Осталась теперь одинокой жена с ребенком, да я!... Как-то теперь пройдет моя операция!...
Второе горе – болезнь мамы… Потерять навечно зрение!... Это, ведь. Ужас!… Бедная моя! Провожала меня она – видела меня. Из старческих добрых глаз лились горькие слезы… А теперь эти глаза закрылись навсегда!... Не увидят они ни чудного божьего лика, ни подрастающее поколение внучат, ни идущих к уклону жизни ее детей!... И опять невольно рвется из души крик «За что?!»… Человек был религиозный, добрый, благодушный… Вообще, на саму семью пошли несчастья!... Болезнь мамы, Иосифа, Пашеньки, моя, наконец, – несчастье с Саней… В один год и столько горя!... Завидно смотреть на другие семьи – нет у них таких несчастий, а у нас только и слышишь одно – болезнь и несчастья!... А, ведь, наша семья не хуже других!... Не воры, не грабители мы…
За что бы?!... Хотел написать о встрече пасхи в больнице, да уже до другого раза… К нам в номера поместили чахоточного (кажется, в последнем градусе). Его внешний вид, хриплый голос, кашель (ужасный кашель!), тяжело неотступно преследующий его и день и ночь (а особенно ночь) наводят на грустные думы… Печален и больной студент. Жутко становится, когда видишь, как рассудок покидает живого, подчас даже интересного, человека… Заработался юноша, изнервничался, пережил какую-то семейную драму и теперь неврастения, ужасная тяжелая неврастения с незаметным переходом к сумасшествию…
30.11. (13.12.) 1904 г.
Весна идет!... Да, как это ни странно, а русское общество оживает… Земство, интеллигенция, городское самоуправление все начинают заявлять свои требования, свои права… Банкеты. Митинги, демонстрации, собрания чередуются, друг за другом… Требуют: свободы слова, печати, сходок, союзов, гарантий прав личности, равенства всех, образования, созывов учредительных собраний. Выдают все гранты за это время:
1. Союз представителей земств 32 руб. (106-107) 6-го, 7-го и 8-го ноября 1904 г., выставивший, вышеуказанные требования с прибавлением ходатайств об освобождении всех политических страдальцев.
2. Банкеты с речами в Воронеже, Тамбове, Саратове, Москве, Киеве, Петербурге и многих других городах России (от 200 до 1000 чел.). Речи были свободные, говорилось те же темы. /13/
3. 28 ноября грандиозные демонстрации в Петербурге на Невском, ранее демонстрация на Моховой. Целый ряд банкетов по поводу 40-летия основ Судебного Устава.
4. Петиция Калужского губернского земства. Такие же петиции предполагалось и от других земств.
5. Съезды разных представителей земств, обществ и прочих.
Губернские собрания откладываются до января по непонятной причине. Словом, мы живем накануне чего-то нового, грозного, серьезного… Много земств, общественных деятелей, сосланных при Плеве, лишенных права общественной деятельности, возвращены: князь Долгоруков (Князь Пётр Дмитриевич Долгоруков — русский политический деятель, один из основателей Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы), член I Государственной думы), Пересченин, Мартынов, Бунаков (умер) (Николай Фёдорович Бунаков — педагог, теоретик и практик начального обучения), Щербина, Рубакин (Николай Александрович Рубакин — русский книговед, библиограф, популяризатор науки и писатель), Анненский (Николай Фёдорович Анненский — русский экономист, статистик, публицист-народник, журналист, переводчик и общественный деятель. Брат поэта Иннокентия Анненского), Фальборк (Фальборк Генрих Адольфович — писатель и общественный деятель), Чарнолуский (Чарнолуский Владимир Иванович — педагог, член Центрального бюро Всероссийского учительского союза, при Временном правительстве - председатель Бюро и глава двух комиссий Комитета по народному образованию) и многих других.
24.10. (06.11.) 1908 г.
Очевидно, никогда я не напишу своих воспоминаний… То дела мешают, то настроение неподходящее… То, наконец, нахлынет так много воспоминаний, что и не знаешь, за что взяться, с чего начать… И теперь вот… Не говоря о далеком старом, и студенческих годах, о впечатлениях от встреч с писателями (Михайловским, Гаршиным, Лесевичем, художником Ге и прочими), даже о недавнем прошлом можно было сказать много…Запишу конспективно.
В апреле 1904 г. мне сделали операцию, хотя и благополучно, но не совсем удачно – камни все из почки не были извлечены и домой я возвратился в июле не совсем здоровым. В июле же был возвращен из тюрьмы брат Саня… Но нашу семью ждало другое горе – в октябре умер брат Паша. Хотя он долго страдал, и смерть явилась для него избавительницей, но его было жаль искренне… Тяжело жаль… В память его мы, близкие родные, собрали маленький капитал 800 рублей и пожертвовали городу на бедных учеников. В апреле 1905 г. ждало нас новое горе – смерть любимого зятя, врача Иосифа Герасимовича Никольского. В виду тесной дружбы всей нашей семьи и эта смерть тяжелым горем отразилась на нас… Иосифа пришлось везти из Крыма. Когда его хоронили в Усмани, я лежал больной (начались мои «затеки» - последствие операции)… Вот выдающиеся моменты нашей семейной жизни за это время. Мама зрения лишилась, и улучшения никакого не замечалось… Я начал прихварывать периодически (раз в два месяца, а то и в месяц)… И у меня чаще и чаще стала являться гнетущая мысль, что без новой операции я не обойдусь… Я старался отогнать эту мысль, но обстоятельства все чаще и чаще заставляли меня возвращаться к ней. И, наконец, я так серьезно заболел, что меня повезли в Петербург, где 22 октября 1907г. мне сделали операцию – окончательно удалили больную почку… Операцию как будто сделали благополучно, по крайней мере, я чувствую себя в течение года сносно. Во всяком случае, неизмеримо лучше, чем после первой операции… Одно неприятно, что мысль о том, что я с одной почкой, нет-нет, да и шевельнется в голове и взволнует…
Второе, что волнует меня теперь часто, это здоровье старика отца… Болезнь его в декабре 1908 г., чуть-чуть не сведшая его в могилу, недомогания нынешнего года – все это страшно тревожит меня…Знаю, что стар он (78 лет ему), знаю, что сам не доживу до его лет и решение жизненной задачи неизбежно, все-таки хочется оттянуть роковую развязку… Хочется вдохнуть в это изветшавшее тело еще живительного огня… Не знаю, может быть, здесь отчасти и эгоизм говорит, и благодаря папе я могу сейчас с более легким сердцем заниматься общественными делами… Но нет, я горячо люблю старика…
Из общественных событий этого времени надо отметить: закрытие книжной торговли, гонение на библиотеку. Наконец, привлечение меня к суду по 129 ст. с устранением от должности городского головы. Устранение от должности в административном порядке. Погром еврейских лавок. Все это началось со времени введения пресловутой «Конституции»… Ах, эти годы! 1905 и 1906. Вспомнишь о них и грустная радость, смешанная с еще большим горем поднимается к горлу и слезы наворачиваются на глазах… Но нет, об этом надо говорить подробно и много. Скажу одно – для нашего культурного дела эти годы принесли одни огорчения и страдания… Правда были и крупицы радости, но горя было больше…
В ноябре 1904 г. я писал: «Весна идет», и действительно все было похоже на весну, сулящую много радости, много счастья… Правда были и мрачные картины, на них смотрели как на неизбежное зло… Так, я помню проводы запасных на войну. В конце октября или начала ноября это было… Помню молебен, теплую речь священника отца П. Княжинского… Помню неудержимо подступавшие к горлу слезы… Жалость, тихая жалость к этим несчастным «обреченным»… Грустные, заплаканные лица, или озлобленные, с завистью смотрящие на нас, остающихся здесь… Стыдно и больно было смотреть на них… Вот идут люди на бессмысленную бойню, не одушевленные глубокой идеей, а идущие по приказу, из-под палки, тупо, бессознательно обряжающие в далекий путь… Мы провожали их, и я плакал, давая им книги, булки, мясо, чай и прочее… Я говорил им: «Прощайте братцы, дай бог увидеть вас бодрыми, здоровыми, идущими обратно»… Я чувствовал, что лгу, так как глубоко верил, что многие не вернутся из них. Под Ляодуном и Мукденом на сопках лежат их безымянные могилы… Запасные были расквартированы уже по домам жителей. Я знаю, например, что из живших у нас 6-7 запасных было убито 3… Да, много их не вернулось!... И не подумаешь, за что загублены эти души, во имя чего страна истекала кровью, орошалась слезами, разорялась, такая ненависть закипает против всех виновников этого позорного дела… Но эта кровь не пролилась даром, она подмыла старые устои, она создала такой грандиозный подъем общественного духа, какой стране запомнится… Да девятый вал ненависти и гнева против угнетателей и насильников поднялся и смыл старые прогнившие здания… Правда, после приливов начался неизбежный отлив, и старые обломки здания опять нанесло на берег. И эти обломки еще стоят… Но будет новый вал…
28.06. (11.07.) 1909 г.
Опять обращаюсь к 1904-1905 гг…. Свежая струя воздуха коснулась нашего захолустья. Смерть Плеве (был убит Сазоновым) и вступление Святополка-Мирского окрылило надеждами и нас, скромных мечтателей… Газеты запестрели адресами о доверии… Стали организовываться банкеты… Один такой банкет, помню, был организован в Воронеже… Народу собралось очень много и не только Воронежские общественные деятели, но и из других городов. Тут были представители городского и земского самоуправления, врачи, учители, инженеры, студенты, адвокаты и т. д…. Заполнены были все залы «Грант отеля». Земцы делали доклад о только что происшедшем знаменитом Земском съезде, на котором были выработаны конституционные формы. После этого начались банкетные речи… Все это было высказано робко, полунамеками. Говорилось об узнике, у которого спали заржавленная цепи, которых коснулась своим крылом ласточка (говорил один адвокат). Читались выдержки из неизвестных произведений Горького… Говорилось о реформе общественного строя… Провозглашались тосты за погибших борцов… Говорилось о равноправии женщин… Но все это говорилось полунамеками… Но даже и полунамеками захватывало дух своею смелостью, своею новизной… У всех было какое-то праздничное настроение, высоко приподнятое… Особенно же оно высоко поднялось, когда был предположен тост за русскую конституцию… Стало как-то даже жутко… Это слово впервые было произнесено публично… Второй банкет, посвященный памяти декабристов, увы, не удался… Мы у себя тоже стали устраивать банкеты… Для нашего маленького городка, это было невероятно… Но освободительная волна так захватила, что даже наше инертное консервативное общество и то всколыхнулось. Именитые купцы, старые, неповоротливые и те пришли на банкет. Про молодежь уже и не говорю. Темами для разговоров и речей были – будущее России, экономические, политические. Говорили о современном строе, и о желательных изменениях его, говорили о студентах… Шли принципиальные споры… Банкеты наделали много шуму в городе, о них много говорили, много, конечно, преувеличивали… Разнюхивали жандармы, но такое уже время было, что посудили, порядили и замолчали или скорее «намотали себе на ус» на счет предбудущего времени… В это же время организовывался кружок с целью знакомиться с текущей литературой… Опять также время такое было, что объединялись довольно разнородные элементы… Читались больше публицистика, передовые журналы и газеты («Право», «Русское богатство» и пр.)… Сообщались сенсационные вести о том, что делалось в Москве и Питере. А в это время шли банкеты, писались адреса, резолюции. В Петербурге разыгрывалась трагедия 9-го января… Никогда не забуду одного момента. Читали описание бойни 9 января… Доктор Н.А. Иорданский, слушавший сообщение, не выдержал и разрыдался, как ребенок… А человек он был суровый, твердый, не способный ни на какие сантименты. В это же время в «Праве» появилась две знаменитые статьи. Одна князя Е. Трубецкого (Князь Трубецкой Евгений Николаевич — русский философ, правовед, публицист, общественный деятель), а другая И. Петрункевича (Иван Ильич Петрункевич — земский гласный, российский политический деятель, видный член кадетской партии. Член Государственной думы). Я не помню их название. В них приводилась убийственная критика бюрократическому строю. Статьи эти наделали шуму не в одном маленьком городке, но и во всей России… В Москве, например, номера «Право» с этими статьями продавались по рублю и дороже… Библиотеки и книжная торговля начали пополняться книгами и брошюрами по вопросам общественного строя в России и за границей. Появлялись на свет книги, много лет лежавшие под спудом. Это Якушкин (Вячеслав Евгеньевич Якушкин — исследователь русской истории и истории русской литературы) «Записки декабриста», Розен (Барон Андрей Евгеньевич (фон) Розен — декабрист)«Воспоминания декабриста» и пр.… Появилось издание «Донской речи» Парамонова (Парамонов Николай Елпидифорович — сын известного ростовского купца - миллионера), появились журнал «Зритель», газета «Сын отечества», «Наша жизнь»… Много еще. Одним господином было внесено предложение – организовать в клубе народнические собеседования на общественные темы, но получился отказ… Была еще попытка со организовать, тоже окончившаяся неудачей. Мы организовали бюро кадетской партии и хотели опубликовать об этом, но администрация не разрешила этого, а потом при наступлении реакции, эта попытка была поставлена в вину… И в нашем городе, наряду с легальной работой, существовала нелегальная, подпольная. Я заключаю из этого, что за это время участились случаи подбрасывания листков прокламаций… Знаю и некоторых лиц (Андреев, Барабанов и др.). Начались и обыски, и аресты, чего ранее в нашем богоспасаемом граде почти, что не бывало… Не удалась и попытка организовать и союзы русского народа. Инициатором и организатором его был Варшавский профессор П.В. Никольский (Пётр Васильевич Никольский — русский врач-дерматолог и венеролог, профессор Варшавского университета, председатель Киевского губернского отдела Союза русского народа), сын местного протоиерея… Набралось в компанию к нему очень мало народа. Да кто и собрался, представлял в лучшем случае умственное и нравственное убожество.
29.06. (12.07.) 1909 г.
Продолжаю… события развивались со значительной быстротою. Были изданы манифесты с обращением представительных учреждений… Наш городок вел свою мирную жизнь. Усиленно читал газеты, говорил, строил планы… Наконец, настали осенние дни… Начались митинги в университетах, на площадях… Забастовки. Мы были отрезаны от всего мира… Масса слухов, преувеличенных слухов… Жуткое состояние, тоскливое состояние – быть оторванным от всего окружающего мира!... Поезда не ходили… Цены на продукты росли… Состояние становилось тревожным… Первая весточка была из Воронежа… С каким-то случайным поездом приехал приказчик и сообщил, что в Воронеже получено известие, что объявлена конституция… Служат молебны, шлют телеграммы… Не верится… Наконец, первая печатная телеграмма с манифестом 17 октября… Читаю и не представляю себе ясно, что в словах манифеста явно сквозит конституционная идея… Идея самодержавия, бюрократизм так глубоко вкоренились в сознание, что и не можешь себе конкретно представить конституцию на русской почве… Жена была в Москве… 19 или 20-го получаю от нее телеграмму: «Поздравляем конституцией»… Брат, бюрократ, из Питера шлет телеграмму того же числа: «Объявлена крупная реформа»… Да, это не сон… В России конституция!... Начинаю вчитываться в манифест… Да! Это конституция!... Прихожу в Управу – все с расспросами и приветствиями… Учитель читает с волнением манифест… Дает читать телеграмму с манифестом законоучителю… Тот прослезился (но, во всяком случае, не от радости)… В городе тихо, сонно… Как будто ничего не случилось… Но вот, наконец, и долгожданные газеты… Со всеми подробностями… Митинги, борьба… Свобода!... Тамбовская губерния была объявлена на положении усиленной охраны. Но вот и тамбовские газеты вышли. Свободные, смело говорящие, грозно критикующие деятельность власти… Тюремные двери открываются… Митинги в Козлове, Тамбове, Борисоглебске… Нет, это сон!... О нет, это действительность, и горькая действительность… Наряду с ликованием, радостью, торжеством, начинаются и мрачные картины… Убийство Баумана (Николай Эрнестович Бауман — российский революционер, деятель большевистского крыла РСДРП), сожжение Тверского земства, избиения и убийства земцев, интеллигентов, борцов за освободительное движение… Начинается…
Числа 20-го октября звонятся ко мне. Входит земский гласный Б., на вид либеральный, но очень неустойчивый и пустой человек… Бросается в объятия, целует… – Поздравляю со свободой, с конституцией… – Погодите! Не увлекайтесь, говорю я, а погромы, а усиленная охрана!... – Ничего, все это скоро кончится… Я колеблюсь. Его энтузиазм и меня заражает… – Сегодня предвыборное собрание… Пойдете? – Да, да, непременно!... Обращаюсь к предводителю дворянства за разрешением… Он растерянно говорит – Теперь все можно… Народу собралось много – хозяйственные мужички, духовные, мелкие и крупные помещики… Все чувствуют себя как-то неловко в новой обстановке. Да, действительно, в Усмани это первое свободное собрание… Говорил гласный Б. о том, что такое конституция, что манифестом дано право контроля над министрами, что теперь мы через своих представителей будем сами вырабатывать законы… Говорилось это не складно… Но было все-таки странно слушать из уст этого человека, да в таком захолустье как Усмань, такую «свободную» речь… После говорил городской судья, помещик Бланк. Он негодовал на свободу, на конституцию. Говорил, что не нужна она нам, что старый режим лучше, что при новом режиме больше будет воровства, как в Западной Европе и Америке с парламентскими странами… Негодовал на забастовку, которая нанесла так много горя и страданий населению… Я вступился за забастовщиков, заявляя, что благодаря их работе, энергии, страданиям, Россия и получила те новые формы государственности… Моя речь, кажется, многим не понравилась… Генерал Якубович, милейший человек в обыденной жизни, кажется, больше всех был недоволен констатированием мною факта большого влияния забастовщиков на ход события. Я все говорил в очень мягкой и корректной форме. И он стал расспрашивать публику, разделяют ли они мое мнение… Выступил пьяный табачник и коснеющим языком заявил, что «Грацкому голове стыдно так говорить»… Один мелкий землевладелец из крестьян заявил, что «он согласен, что Федор Васильевич против Бланка говорил»… Собрание кончилось, не постановив никакой резолюции… Все это было для нас ново, не понятно, и до таких тонкостей мы дойти не могли…
Было такое же предвыборное собрание и в Городской Управе. Собралось человек 40… Говорилось о партийных программах. Был один сторонник бойкота выборов, молодой человек Н.В.С. (потом в дни реакции за другое дело – почтово-телеграфная забастовка, ему пришлось просидеть в тюрьме 8 месяцев)… Но он был одинок… Громадное большинство стояло за участие в выборах и разделяло кадетскую программу… Вот и все красные дни нашей усманской жизни… Мы отцвели, не успев расцвести…
Начиналась реакция, злая, ужасная реакция… Губернатор Фон-дер Лауниц все силы души положил на борьбу со свободами… Тамбов был объявлен на военном положении, а губерния на положении чрезвычайной охраны… Легальной культурной работы не могло идти… Город опять погрузился в старую апатию… Зато заговорила деревня… В лесах начали собираться митинги, стали появляться агитаторы, собиравшие сходы и говорившие о земле. Начались мирные забастовки, а потом и насильственное снимание рабочих с требованием им усиления платы… В нашем уезде это движение крупных размеров не достигло, но панику огромную навело на помещиков… Крестьяне делали угрозы помещикам, а подчас и жгли… Поджогов было изрядно… В городе в первых числах ноября 1905г. был погром… Вспомнил еще один курьезный факт. В самую весну русских свобод получил я из села письмо от группы крестьян с приветствием, поздравлением и благодарностью, хотя я лично, крестьян этих не знал… В письме говорилось, что они теперь стали гражданами, что и для них занимается заря новой осмысленной жизни. Благодарят студентов, и вообще интеллигенцию за те труды, которые, они положили на борьбу за свободу… Из этих крестьян один (В. И. Чиликин), кажется, через неделю был посажен в тюрьму Фон дер Лауницем. И только угрозы крестьян помещику, предводителю дворянства сжечь его имение, если он не похлопочет об освобождении из тюрьмы этого крестьянина, помогли, и он был освобожден. Другой крестьянин и до сих пор находится в ссылке в Архангельске. Этот крестьянин энергично добивался послать государю благодарственную телеграмму за дарование свободы, но это ему не удалось и послужило одной из причин его ссылки. О погроме после…
05.07. (18.07.) 1909 г.
Погром произошел в первых числах ноября 1905 г. в базарный день. Недели за две до него уже ходили слухи, что народ собирается громить еврейские лавки, но как-то не верилось в это, ибо город наш маленький, евреев в нем мало, да и какие имеются, они мирно живут с местными обывателями. Базар собрался сравнительно не большим съездом, но бросилось в глаза, что на телегах приехало много мужиков… Надо сказать предварительно, что симптомы к «чему-то» готовящемуся были. Так явился какой-то подозрительный субъект, как оказалось потом сыщик (бывший сапожник) и подбросил к одному еврею машинку для изготовления фальшивых монет… И вот пошли по городу слухи: «Жиды делают фальшивые деньги», «Жидов надо бить!». Следователь не привлек евреев к суду, так как провокаторская проделка приезжего сыщика была шита белыми нитками… Итак, часов в 12 дня в пятницу на площади против рыбных лавок собралась довольно значительная толпа крестьян и начала шуметь… Что она шумела, трудно было разобрать… Говорилось о том, что «Купцы всю кровь высосали», что город «За все дерет с мужиков» и отсюда, почему-то вытекало, что «Надо бить жидов»… Я, как только получил известие в начале «бунта», заехал за кладбищенским священником, как было между нами условлено, и пошел в толпу. В толпе растеряно толкался исправник, полицейские надзиратели, городовые… Было ясно, что они или растерялись, или им было приказано «не мешать» и даже «поддерживать»… Были данные думать и последнее: ибо вначале толпа была настроена очень благодушно… Хотя и говорили «страшные слова», но все это делалось как-то нехотя, благодушно… Толпа топталась на одном месте, и получалось впечатление, что она не знала что делать… И мне кажется - энергичный окрик, натиск городовых и стражников и толпа разбежалась бы. Но полиция бездействовала… Мы (я, член управы Юстов, священник отец П. Княжинский) долго уговаривали толпу, но она все топталась на месте… Но вот раздаются крики: «Пойдем, ребята, бить жидов!»… Кричат эти слова местные хулиганы-пьяницы… Мы бросаемся к ним, начинаем их упрекать… В это время один из них кричит мне: «Да мне Леонид Валерьянович велел» (Имя местного полицейского надзирателя)… Толпа орет «бей жидов» и бежит к двум лавчонкам евреев-шапошников (во всем городе их всего две лавки). Людей бедных, мирных тружеников, многосемейных… За толпой устремляются стражники, полиция, и мы… Переулок, где находятся еврейские лавочки – узкий… Толпа сгрудилась, но приступать к слому боится. Стражники стали у дверей лавчонок и приняли какой-то беспомощный, вялый вид… Здесь еще легче было разогнать толпу, но полиция опять медлила… А толпа начала уже более волноваться. Отдельные лица стали наносить словесные оскорбления священникам, бывшим с крестами… Один пьяный мужик долго бессвязно доказывал мне, что жидов бить надо, так же купцы мужиков обижают. Что сам царь велел бить жидов и т. д…. Я долго возражал ему и убеждал не делать никаких насилий… Но он не унимался… Подходит другой пьяный, и, обращаясь ко мне, говорит: «Да ты, дай бог, тоже жид»… А толпа все шумит, все ругается… На крышу начинают бросать камни… Некоторый шум и треск крыши от падающих камней возбуждает толпу, она кричит, гогочет… Я бегаю по толпе, умоляю ее успокоиться… Обращаюсь к глазеющей публике и прошу ее содействия. Она или молчит, или улыбается, но помощи не оказывает… Наконец, один субъект, административно высланный – Бабков, вскакивает на площадку лавки и железом начинает ломать замки у дверей… Стражники вяло сопротивляются и удаляются… Двери сломаны… Из лавки летят шапки, картузы, и поддевки… Толпа звереет. К даровому товару жадно тянутся руки уже не одной активно участвовавшей толпы, а и безучастно глазевшей публики… Мужики и бабы вырывают друг у друга товар. Бегут, прячут его, снова бегут и еще забирают…. Я бросаю поле битвы и иду к воинскому начальнику просить воинскую команду (состоящую всего из 6-7 человек!)… Получаю отпор. Когда возвращаюсь назад, то вижу уже другую картину. Толпа в паническом страхе разбегается, а за ней гонятся местные жители… Оказывается дело дальше приняло такой оборот… Разграбив одну лавку, толпа набросилась на другую. А потом "зубы разгорелись" и уже стали пробовать замки у не евреев, соседняя лавка мануфактурщика Исаева… Здесь заговорило уже другое чувство… Приказчики небольшой кучкой человек 15-20 сперва благословились у священника и с криками «Казаки идут!» бросаются на толпу и начинают ее бить. Толпа, раз в 50 превышавшая эту кучку, опешила, ошеломленно в испуге бежит в рассыпную… К смельчакам приказчикам присоединяются еще кое-кто, а под конец те самые хулиганы, которые были инициаторами побоища. И начинается форменное ужасное избиение мужиков по всем улицам и дорогам… Бьют и правых, и виноватых… Бьют, чем попадя. Бьют не только взрослые, но и мальчишки (школьники)… Теперь приходиться унимать победителей. По окраинам города собираются крестьяне обиженные, невинно пострадавшие, избитые… А хулиганы уже шайкой ходят по обывателям и собирают «мзду» на выпивку за «спасение города»… Положение создается ужасное… Горожане в тревоге, в волнении… Гласные и купечество собираются в думе и настаивают, что бы просить у губернатора войск для охраны. Разделяются голоса: «Казаков», но я протестую, всею силою души против казаков… Посылается телеграмма такая: «Просим прислать для охраны войска, только не казаков» Подписываемся: голова и исправник. Последняя фраза дорого стоила мне и исправнику. Знаменитый фон дер Лауниц в 24 часа устраняет исправника, а насчет меня держит затаенную мысль отомстить. И осуществляет эту мысль, когда город объявляется на положении чрезвычайной охраны. На основании этого положения я устраняюсь от должности в административном порядке. Конечно, не одна вышеуказанная приписка в телеграмме, служит поводом. Тут и либеральный образ мыслей, и банкеты, и многое другое… Очевидно, я был не по нутру. Хотя при личном свидании с губернатором в Усмани, когда он знакомился с городским благоустройством, я, кажется, произвел на него приятное впечатление (о личности фон дер Лауница когда-нибудь после) … Но это наше знакомство было еще до «свободы»…Возвращаюсь к погрому. С неделю после этого события горожане были в тревожном состоянии. Все боялись нашествия крестьян, и возмездия… Солдаты пришли дня через 4… Горожане встречали их с распростертыми объятиями… В складчину покупали табак, ухаживали за ними… Солдаты оказались очень милы. Дух дисциплины был еще крепок. Эти солдаты скоро ушли. На их место пришли новые из Москвы с лощеными московскими офицерами… За это время много перебывало разной охраны… А события развертывались… Бунты крестьян, бунты солдат все вновь и вновь появлялись… Помню одну жуткую ночь, когда в Усмань пришли беглые солдаты дисциплинарного батальона… Их приходу предшествовало много легенд… Бежали с оружием. Рассыпались в лесу. Обстреливают поезда. Идут на город… Жутко было… И вот пришли… Но что это была за картина! Жалкие, оборванные, голодные, с землистым цветом лица. Ружья свои они выдали воинскому начальнику… Набралось их много – сотни 2-3… Город пожалел их. Стал кормить, поить… На 3-й день приехало растерявшееся начальство. К ним был прикомандирован офицер… И эти несчастные, от приближения которых к городу трепетала вся Усмань, оказались самыми мирнейшими людьми… Еще раз трепетала Усмань, когда к нам была прислана рота взбунтовавшегося в Тамбове полка… Солдаты были страшно распущены, грубы, пьяны… Ими всюду говорились зажигательные речи. Арестантам в тюрьму они кричали: «Скоро вас освободим»… Офицеры их боялись… Нередко они обижали и мирных граждан… Но еще больших мук мы натерпелись от казаков, особенно от первой партии, прибывшей в Усмань. Пьяные, развратные, воры, чуть не каждый день они безобразничали в городе, особенно в пригородных слободах… А когда они уезжали в помещичьи экономии, то там прямо плакали от них… Теперь все это миновало и поросло быльем… А когда вспомнишь, так не верится, что приходилось переживать… Ведь, все устои рушились… В солдатах иссякла дисциплина, в народе – презрение к власти, потеря веры…
Хотелось закончить нынешний день воспоминанием об организации милиции. На другой же день после погрома жители заявили желание лично своими силами защитить город… И вот в городской «ратуше» (городской думе) собрался народ… Собралось невероятно много. Чиновники (исправник, податной инспектор, канцеляристы и прочие), купцы и мещане /14/ … Все говорили, что надо организовать дружины… И вот пошли записываться в дружину студенты, мещане, купцы, был даже намечен начальник. Обратились к воинскому начальнику с просьбой выдать ружья, но он направил в Москву в округ, но там отказали. Тогда решили вооружиться револьверами, которые купить на городские пожертвованные деньги. Охотников иметь револьверы и вступить в дружину нашлось много… Когда я стал рассматривать списки, мне стало даже жутко – а не даем ли мы оружие в не надежные руки, против самих же себя?… Правда был общественный подъем. Порой всем хотелось работать на пользу города… Несколько ночей не спал и я от этих мыслей… Ведь пора пройдет, а идея служения народу в большинстве дружинников глубоко не сидела. И, значит, после отлива могло бы появиться много очень печального… К счастью (теперь я это вполне твердо говорю) осуществить идею городской милиции не пришлось, так как в город пришли войска, и охрана города была передана им…
06.07. (19.07.) 1909 г.
Вспомнил о фон дер Лаунице. Приехал он в город осенью 1908 г. в грязь… Я ездил его встречать на станцию и пригласил его обедать. Он изъявил свое согласие… Прежде всего, осматривали тюрьму. Осматривали бестолково, по-военному. Лазили на чердак… Конечно, пробовали пищу. Так же проделал в «Детском доме». В городской больнице его рассмешил смотритель, ответивший на его вопрос: «Часто ли умирают старики?» - ответил «Плохо, но долго живут». В городском училище его удивило, что дети сапожников, такие молодые, через какой-нибудь год (говорилось об учениках последних классов) будут иметь право государственной службы… Будут чиновниками… По обычаю смотрел пожарную команду. Остался ею доволен, и дал на чай. На обед был приглашен весь местный Олимп и шли разговоры на злободневные темы.
Между прочим, разговор коснулся недавно происшедшего случая – самоубийства офицера, получившего оскорбление от оборванца. Лауниц высказал свой взгляд на офицерскую честь, по которой оскорбленному офицеру ничего другого не оставалось делать, как кончить самоубийством, ибо выйти в отставку – это «хуже смерти». А вызвать на дуэль хулигана не возможно… За кофе зашел разговор о евреях и нашему исправнику был высказан упрек за мирволенье к евреям… Уж нет ли у вас здесь чего доброго сионистов?... Протоирей собора, бывший на обеде, поддакивал Лауницу. И указал, между прочим, на меня, как на сочувствующего евреям… Далее разговор коснулся Саровских торжеств. Лауниц был озлоблен газетами, которые открывали массу безобразий – на этих торжествах благодаря не распорядительности, небрежности, презрению к бедным «малым сим»… Он был озлоблен и Питерскими генералами, особенно питерской полицией… К сожалению, я забыл детали рассказа об американском корреспонденте, который благодаря услугам охраны прошел ближе, чем допускалось для сомнительных лиц. А американец был сомнителен. Лауниц приказал его арестовать. Но тот субъект моментально исчез и как энергично его не разыскивали, найти не могли… Сильные пережил волнения Лауниц, боясь несчастья, которое мог принести этот субъект… Другого несимпатичного иностранного корреспондента он в 24 часа отправил из Сарова… Много сидело народа во все время торжеств в заключении только потому, что они, лично Лауницу казались несимпатичными и сомнительными… Помню еще рассказ: «Все было хорошо… Государь был доволен… Но вот ему захотелось пойти к сумасшедшей (Святая блаженная схимонахиня Параскева (Паша Саровская, в миру – Ирина))… Все пропало… Оттуда он вышел мрачнее тучи и в том настроении и выехал из Сарова… А эта глупая баба наболтала ему всякого вздора»… О сорвавшихся торжествах поговорю особо и тогда снова коснусь Лауница, а теперь поговорю о другом губернаторе, о Муратове. Мне пришлось встречать и его, хотя при другой обстановке… Муратов предвзято смотрел на меня. Перед этим только он меня устранил от должности, привлекал по 129 (ст. 129, ч. 1, п.п. 51 и 3 Уголовного Уложения), но об этом подробно после. И, незадолго до приезда, восстановил в должности после моего упорного требования, подтверждаемого удостоверением следователя моей невиновности… О своем приезде он приказал не разглашать до момента прихода поезда (очевидно, делалось из опасения покушения). Исправник мне ничего не говорил о приезде, хотя предводителю дворянства, председателю Управы было сообщено. Желал ли он, чтобы губернатор застал меня врасплох – не знаю, по данным как будто говорило за то. О приезде губернатора я узнал от предводителя генерал-лейтенанта Якубовича. По его же совету я решил ехать встречать губернатора на станцию… Первые слова его были: «Ну как мы поживаем? По старому? Не по тому старому, которое было недавно (намек на освободительное движение), а по хорошему старому!»… Я ответил, что все состоит благополучно»… Потом спросил: «Пожалует ли его превосходительство в городскую управу?». «Я буду у вас в библиотеке», при этом долгий взгляд на меня, «А потом пожалую и в Управу»… В Управе встретили его хлебом-солью (причем, в виду неожиданного приезда, хлебом была простая булка) и извинились, что так скромно встречаем, ибо не знали о приезде… Губернатор сказал речь, приблизительно такую: «Меня трогает эта встреча, если она искренна, и не за себя лично, а за тот принцип, который я осуществляю, являясь посланником Государя»… Осмотрев Управу, и найдя ее очень хорошею, отправились смотреть пожарный обоз. Похвалил пожарных и дал на чай (при этом очень долго рылся в кошеле и дал всего … 3 руб. 50 коп. … Лауниц дал рублей 15). После этого отправился в библиотеку. Потребовал список газет и журналов. В нем особо подозрительного ничего не нашел. Пригласил нас всех сесть и начал говорить. Говорил долго, с пафосом. Суть его речи: есть произведения, говорящие о преступлении и будящие в читателе ужас и отвращение (Достоевский, например), но есть и такие, которые смакуют, стремятся восхвалять преступления, зовут и убеждают совершать преступления. Такова современная литература, журналистика. Газеты «Русское богатство» (назван органом социал-демократов), «Русские ведомости» и пр. … За взрослых бояться нечего, страшно за молодежь… Вот поэтому-то и не следует иметь такую литературу… Заставить не иметь я не могу, но убеждать буду»… Я возразил, что библиотека учреждение до некоторой степени коммерческое (содержится на деньги подписчиков). И ей волей не волей приходиться считаться с требованием подписчиков, почему и приходиться выписывать и такие журналы… А молодежь ограждаем. Так как для нее существует особый отдел и для детей и для юношества в котором выписывают безусловно хорошие детские и юношеские журналы и книги… Прощаясь он заявил, что библиотеку нашел в порядке… Обещал разрешить продажу учебников… Исполнил обещание, и обставил дело довольно многими неудобствами. А потом особым предписанием запретил посещать библиотеку учащимся… После этого отмечу посещение им «Детского дома», который произвел на него очень приятное впечатление. Потому, главным образом, что дети знали молитвы… За обедом, устроенным предводителем, он был очень мил и любезен. Много говорил и довольно остроумно. И под час красиво! В это время печаталась в газетах речь Маклакова (Василий Алексеевич Маклаков — российский адвокат, политический деятель. Член Государственной думы II, III и IV созывов ) по поводу Министерства внутренних дел… В своей речи, между прочим, Маклаков коснулся, и Муратова… И вот Муратов за обедом стал подшучивать над Маклаковым… Никогда не забуду одну его фразу. Разговор зашел о Гершельмане (Сергей Константинович Гершельман — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, Московский градоначальник, генерал-губернатор) (перед этим только печатался запрос Думы о нем), который получил отпуск за границу. Ходили слухи, что это первый шаг к отставке… «Ничуть не бывало… Чем больше нас ругают левые, тем лучше для нас. Когда я был прокурором, и меня начали ругать, я получил «и.д. губернатора». Когда люди стали меня ругать еще более, я получил действительного статского советника и стал полным губернатором»… На прощанье он пожелал нам больше пить, а то Усмань мало пьет. Вообще, к выпивке он относился очень благодушно, хотя сам ничего не пил и вообще теперь не пьет… Все его воспоминания юности вертелись около выпивок, гомерических попоек. За завтраком было высказано несколько взглядов по поводу выборной системы. Заговорил о земских начальниках. «За них я не сомневаюсь – будут комиссарами, а вот жаль мне градских судей, теперь будет выборный институт… А наши выборы я знаю. Кто больше даст… Я имел неприятность провести две выборные сессии в Государственную думу. Два раза купался в грязи… Лавочки были открыты… Кто больше даст? Кадеты дают 1000 рублей, октябристы столько-то… Кто больше даст за того и пойду… Так как у Союза русского народа денег мало, он меньше всех и предлагал… Да все выборы это подкуп… А заграница эта еще больше развита. Член суда Назаревский (Иван Никонович Назаревский – член окружного суда, действ. ст. советник) не преминул сообщить, что его сын командирован в Америку университетом, и он пишет, что во время президентских выборов подкуп играет большую роль»… Никто не возражал губернатору, но и не поддакивал как Назаревский. У одного генерала Якубовича явилась смелость возразить губернатору и указать, что если плоха выборная система, то теперь существующая система во много раз хуже – личный произвол, заискивание, протекция – все это является обязательным условием существующей системы.
17.01. (30.01.) 1910 г.
Сегодня знаменательное событие в Усмани. Долгожданное реальное училище открыто. Торжественное открытие было скромно, но в тоже время очень трогательно. Собралось человек 70 – гласных городских и земских, педагогов, чиновников и пр. Перед молебном священником было сказаны слова. После того говорили речи предводитель дворянства, я, инспектор городского училища, священник П.Г. Княжинский, гласный Юстов, Попов и многие другие. Во всех речах подчеркивалось, что момент переживается исторический… Отмечалась моя заслуга в этом деле… Да, сегодняшний день я не забуду никогда… Он был триумфом для меня… Все должны были признать, что моя работа на пользу городу не бесследно пропала, что в основании и организации реального училища мною сделано много. Я в своей речи проводил ту мысль, что один я бессилен что-либо сделать. Что вся сила в единении, солидарности, в дружной работе всех без различия партий и взглядов, для общего дела – просвещения… Были получены приветственные телеграммы от вице-губернатора Стерлигова, члена государственной думы Шингарева. Так же от братьев Сани и Васеньки, от И.В. Дмитревского (смотритель уездного училища, член кружка И.В. Федотова) и горного инженера Вейденбаума… Словом, сегодня был славный день, праздник моего сердца, моей мечты… В мою службу открыта женская гимназия (из 3-х классного преобразовали в 7-ми классное, с 4-мя параллельными отделениями). А теперь открыто реальное училище… В 12 лет службы городу сделано не мало: гимназия, реальное училище, организовано начальное образование, медицина, ветеринария и прочее. Эти годы были расцветом городской самодеятельности…
04.02. (17.02.) 1910 г.
Недавно я писал о радостном событии – открытии реального училища, как уже стряслась над ним беда. Временно в реальное назначен был преподавателем врач Николай Александрович Иорданский. И вот не прошло и двух недель, как, получается, от губернатора бумага об устранении городского врача от этой должности… За что, на основании каких законов? Ничего не известно. Я как городской голова запрашиваю губернатора телеграммой. Прошу хоть временно оставить в интересах населения в лечебнице. Полное молчание в ответ… И так до сих пор ничего не известно. Девять лет работал врач Иорданский не за страх, а за совесть. Поставил медицинское дело на большую высоту. Более 4 лет занимал должность врача гимназии и городского училища. Четыре года преподавал в гимназии гигиену. Получал чины… И вдруг одним взмахом пера устранен от должности… В городе упорно говорят, что главная причина – поступление в реальное училище… Есть основание думать, что это и верно, так как политику надо исключить совсем. Ибо Иорданский исключительно занимается медициной… Когда директор реального училища был в Тамбове у губернатора, то тот ему прямо сказал: «Я не потерплю учителей «кадетов»… я их всех вытурю из Тамбовской губернии… А по взглядам своим Иорданский, во всяком случае, не меньше кадета»… Городская управа до сих пор не имеет никаких известий о причинах удаления Иорданского… У нас на Руси, при «конституции» обращаются с общественными учреждениями очень просто – игнорируют их…
16.04. (29.04.) 1910 г.
Вот уже 4-я неделя пошла, как болеет мой отец. Болезнь его, принимая во внимание его возраст, очень опасная и я, по крайней мере, со страхом думаю, что он с постели не встанет… Господи, как тяжело, когда опасно болеют близкие, дорогие люди! Как страстно хотелось бы поднять, восстановить их силы, здоровье… Но природа неумолима, она требует свое. Молодое ширится, развивается, а старое гибнет… Проклятая смерть! С каким бы наслаждением из твоих отвратительных когтей вырвал я дорогое существо… Пусть десять лет, год, неделю, час, но вырвать у тебя! Дать возможность еще подышать свежим воздухом, поглядеть на окружающий мир. Взглянуть на лица близких, дорогих людей… О, до чего отвратительна, бессмысленна вся эта жизнь!... Вот и моя жизнь – она идет уже к уклону. Я стал на верхушке горы и уже начинаю спускаться. Как будто прожито много лет, много пережито впечатлений, а жизнь так быстро прошла, так она мимолетно пролетела, что прямо жутко становится… И зачем же все это?... Почему мы боимся смерти, когда она так неизбежна, так обыденна? Я лично про себя скажу, что я ее не боюсь, а мне жаль покидать жизнь, жаль расставаться с дорогими близкими людьми… Я глубоко уверен, что с моею смертью, мое личное я уничтожится. И уже ничто ни волновать, ни радовать, ни пугать меня не будет – полное «ничто»… И вот теперь, живого меня это тревожит. Мне жаль эту жизнь со всеми ее хорошими и дурными сторонами. Мне сейчас противно – это будущее «ничто»… Мне трудно и больно сознание того, что когда я буду без радости, без страданий, совершенно равнодушное «ничто», это мое состояние будет доставлять массу горя и страданий когда-то близким и дорогим мне людям. А теперь совершенно далеким мне… Быть «ничем», без дум, без мыслей, без страданий и радостей… Вот она «нирвана»… И теперь мне живому, полному жизненной энергии, кажется эта «нирвана» отвратительной… А может быть, если посмотреть с высоты отвлеченных существ, без нервов, мозга, крови, посмотреть на это состояние «пустого пространства». Может быть, действительно это блаженство – ни печали, ни воздыханий, ни надежды, ни разочарований, ни страха, ни храбрости… Ничего!... Даже жутко становится… Нет, смерть понять может только мертвый. А для живого она всегда будет противна, отвратительна, ненавистна… Никогда не забуду той страшной ночи (под 25 марта 1909 г.), когда отец так близок был к смерти… Было страшно, но в тоже время и радостно смотреть на старика… Такое простое отношение к смерти, такой тихий, спокойный переход от жизни к смерти мне не приходилось еще ни разу видеть… Отец засыпал, тихо отходил ко сну… И когда пришел священник, он скромно, но в то же время и благородно гордо готовился к отходу в новую жизнь… «Машина отработала, надо ей и на покой»… «Чего вы не спите… Будет вам, ступайте, отдохните, а обо мне не беспокойтесь – я свое пожил, пора и на отдых»… Это все его слова… Когда священник сказал, что бог даст и поправитесь, он ответил: «Управлюсь»… Действительно было трогательно радостно смотреть на этого старика… И так скромно – благородно умирают простые старые люди… Действительно, получается впечатление, что устал человек и ему хочется отдохнуть. Вспоминаю свою тетку Анну Федоровну. Она так просто говорила о смерти. Давала практические распоряжения по поводу своих похорон. Еще вспоминаю бабушку Алену Федоровну, которая за несколько дней до смерти сама распределила все свое жалкое имущество, проявила свой хозяйский взгляд на расходы по похоронам. Вообще очень просто относилась к вопросу смерти… Почти всегда старики да очень, очень молодые люди – дети, относятся всегда так просто к этому явлению… После завтра пасха, этот святой, радостный праздник обновления, весны, новой светлой жизни… А у нас в доме витает смерть!... О дорогое детство, дорогая юность, сколько радости связано с этим праздником. Сколько надежд, сколько благородных порывов, чудных грез воскресает с воспоминаниями о празднике Пасхи… И все это уже в далеком, далеком прошлом… Теперь какая-то усталость, апатия ложится на душу… Нет уже той глубокой несокрушимой веры в свои силы, в победу правды и справедливости… И опять нудный вопрос: к чему же «все это»?... Где и в чем смысл всей этой жизни?... Мириады миров, мириады планет носятся в бесконечном пространстве… Мириады жизней зарождается, погибает, умирает… Отдельная жизнь отдельного человека, народа, нации, государства – пылинки в сравнении с бесконечным простором своим… Злоба, вражда, убийство, войны, героические поступки и заключение всего – ничего, нирвана, бесцельное существование…
28.04. (11.05.) 1910 г.
Скоро 1 мая – праздник весны, обновление новой жизни… А у нас умирание. Папа становится хуже и хуже… Стоны, душу надрывающие, раздаются почти целый день… А тут заболели ребята. Первым заболел Вася – корью, а завтра, не дай бог, заболеет Шура, потом и остальные детишки. Мучительно ожидание. Васюрка уже отмучился и дело пошло на выздоровление… Теперь очередь за Шуркой… Как-то он перенесет эту болезнь? А ужасна эта атмосфера болезни, умирание. Все мысли сосредоточены на вопросах о температуре, пульсе, клизмах и т.д…. Каждый день встаем с вопросом: как папа? Как дети? С этими же мучительными мыслями и ложимся спать… На душе вечная тревога… Вечно ждешь чего-то страшного, бесповоротного… Тяжело! Тяжко!
28.06. (11.07.) 1910 г.
Прошло 2 месяца с того момента, как я записывал в последний раз свои ощущения в эту книгу. И уже произошло то страшное, то тяжелое, что так томило, так пугало меня… Моего дорогого папы, моего милого старичка не стало… 20 мая около 3-х часов дня он умер… Как ни боролись мы с проклятою смертью, но отвоевать дорогого старика не удалось!... Умирал он в полном сознании. Давал практические советы мне, как вести дела. Говорил нам все трогательно прощальные приветы… Все последние дни был особенно хорош, какой-то благостный… Всех нас благословлял. Прощался с приказчиками, со служащими… Минуты были тяжелые, но в тоже время и величественно трогательные… Подводился итог проделанному долгому (в 80 лет) пути… Вот промелькнуло в голове все, все…. Детство, юность, зрелость, возраст, старость… Прожито 80 лет!... О как много!... Но как быстро они пролетели… Как один миг… «Хоть бы год-два еще прожить»… «Впрочем, они также быстро пройдут, как промчалась вся жизнь»… «Надо радоваться тем, что оставляешь хороших детей»… «Я и так пережил всех своих: и отца, и братьев, и сестер… Вам столько не прожить»… «Эх! Хотя бы Машу /15/ дождаться!»…. Желания умоляют… «Ах, тяжело! Что же смерть не приходит!»… Но она уже близка… Уже крыло ее холодное, ледяное, неумолимое вьет над человеком… Уже зажженный светильник начинает колебаться… Никакие медицинские суррогаты не действуют… «Зачем это?... Не надо! Дайте умереть спокойно!»… говорит папа, когда ему впрыскивают камфару… Но смерть все ближе и ближе… Угасающая жизнь начинает с нею последнюю отчаянную борьбу… Папа начинает метаться. Он срывает с себя простыни… Ему трудно дышать… Его поднимают… В глазах его ужас, ужас смерти… Чувствовалось, что он постиг, что минута расставания совсем близким, дорогим, любящим настала… Надо сказать, жизни, подчас, и тяжелой, и неприятной: «Прости»… Этот ужас в глазах я долго не забуду! /16/ … После него уже сознательной жизни не было. Смерть вошла в свои права… Глаза папочки устремились в одну сторону, но трудно было понять, что видят ли они, что и сам он понимает ли свое состояние… Думаю, что уже сознания не было, а действовала одна физиология… Физиология смерти… Ритмически поднималась грудобрюшная преграда. Открывался рот, раздавались вздохи… Но все это делалось тише и тише… Наконец, затихли… Кончилась жизнь… Отлетела хорошая, чистая душа… Не стало славного цельного человека… Человека «простого сердцем», но человека большого ума, самородка… А потом началась жизнь… Отвратительная жизнь, с ее заботами о покойнике… Панихида, похороны, поминки… Денежные расчеты за все за это… Мелочи, мещанство… Фу, как это все противно! Покойник еще здесь, он предмет забот окружающих, но, в сущности, о нем заботятся уже по иному… Не столько думают о нем, сколько о живых. Что бы люди не осудили… Одно только и трогательно и симпатично – это погребальные песнопения… Панихида с ее «Со святыми упокой», «Плачу и рыдаю», и т. п. По-моему, одна из самых искренних, самых вдохновенных церковных служб. Она так умиляет, так настраивает, так отдаляет от житейской пошлости, и так приближает к чему-то высокому, непознаваемому, а только чувствуемому!…
Не знаю, может быть, тут играет роль и личное настроение молящихся…. Но только при панихидах как-то настроение становится чище… Скорее прощаются нанесенные обиды, жалость легче пробуждается, сочувствие к горю человека… Словом, все лучшие качества человеческой души пробуждаются…
06.08. (19.08.) 1911 г.
Сегодня исторический день для Усмани – празднование 25-летнего юбилея Общества взаимного страхования. Прошло это празднование очень торжественно. Получено было более 50 телеграмм от союзных обществ, были приветствия и не телеграммами, а письмами. Представитель Козловского общества приветствовал лично. После молебствий и краткого слова сказанного священником, состоялась церемония поднесения иконы бывшему председателю правления В.Г. Грекову, прослужившему 22 года обществу и ушедшему со службы по слабости здоровья и преклонным летам. Сцена была трогательная. Старик был взволнован и так тронут этим скромным чествованием, что не находил слов для выражения благодарности… В своей бесхитростной речи, спустя несколько после поднесения иконы, он высказал, что всей душой был предан делу страхования взаимного. И если что и не выходило у него не так, как хотелось бы, то только потому, что он не мог… Ленивым он никогда не был… Он все-таки считает награду себе не по заслугам… Ничего подобного в жизни он не видал и не испытывал. И потому всем этим торжеством он ошеломлен… К слову сказать, Греков – интересный человек. Он был когда-то крепостным, отдан в солдаты. Там дослужил до майора… Это было в Николаевскую эпоху… Он видел все. Все испытал на себе и шпицрутены, и муштровку, и все прелести Николаевской эпохи. Он ходил на усмирение Польши. Был в Севастополе. Имеет «Георгия». Ему сейчас 86 лет, а еще год тому назад он был крепкий, бравый старик… Не верилось что-то, чтобы такой человек мог пережить Николаевскую эпоху, крепостное право и выбиться в офицеры… Его рассказы из казарменной жизни, из военно-походной жизни, об усмирении Польши и прочее. Веяло какой-то эпической простотой, но в тоже время и ужасом… Он просто и «тепло» рассказывал, как им приходилось расстреливать молодых, благородных, изящных поляков… Ему было жаль их… Но что же делать… Его воспоминания о великом Князе Михаиле Павловиче (Великий князь Михаил Павлович — четвёртый сын Павла I и Марии Фёдоровны, самый младший ребёнок, единственный порфирородный из детей Павла I (т.е. родившийся в период его правления). Младший брат императоров Александра I и Николая I.), страшном «фруктовом генерале», которого боялся сам император Николай I. Наконец, его рассказы из быта крепостного права, что приходилось переживать и как страдать… Все это было страшно, жутко, но в тоже время и интересно… Старик этот всегда тепло и сердечно относился ко мне и с удовольствием рассказывал о своем богатом прошлом… к сожалению, теперь я как-то все это перезабыл…
Итак, продолжаю… Я был избран председателем чрезвычайного собрания. Открывая собрание, почтили память Александра II – основателя Общества взаимного страхования, почтили память всех тружеников на ниве взаимного страхового дела. Вспоминали и своих работников, отошедших в вечность… Потом началось чтение телеграмм. После этого, Козловский представитель сказал приветственную речь. В которой высказал, что город Усмань опередил Козлов. Это не смотря на то, что Козлов и больше, и богаче, и населеннее… Я в своем слове развивал мысль, что может творить общество, объединенное идеей созидательности и взаимности, и не находящееся под бюрократическим гнетом… Действительно, взаимные страховые общества чисты, симпатичны, и дороги. Что они в своей основе имеют идею солидарности, братства… Это один из видов кооперации, и кооперации, которая со временем захватит всю Россию… Моя речь произвела впечатление, мне горячо хлопали… Потом начались тосты… Все тосты были симпатичны, проникнуты духом братства, взаимности… После этого мы снимались на фотографию, а потом смотрели маневры пожарной команды… Словом, праздник вышел на славу…
Кстати о праздниках, я не записал еще одного праздника, дорогого, особенно мне – это закладка реального училища. Было это 18 июня 1910 года. Праздник был обставлен очень торжественно… На место закладки из церкви шли крестным ходом с местной чтимой иконой, хоругвями и прочим. Было 4 священника. После молебствия двумя священниками было сказано приветствия, в которых отмечались мои заслуги перед городом в области просвещения… После закладки, на скромном завтраке, было произнесено много речей, провозглашено много тостов. Мне особенно было приятно, что в этих тостах отмечалась опять моя деятельность в области просвещения. Может быть, это эгоистично, но было приятно видеть, что деятельность моя на пользу города не бесследно прошла. Что ее приходится отмечать… И может быть, даже завидовать ей… Приятно сознавать, что 16-летняя работа на пользу города (четыре года товарищем директора банка и 12 лет городским головой), заметна и ценится… Конечно, не наградами, орденами и чинами, а мнением общества… Я в своей речи проводил опять-таки ту же идею, как и в страховом обществе, что мы должны объединяться. Что только в единении и солидарности наша сила. Что только сплоченностью людей всех направлений и партий, объединенных в данном случае одной общей идеей – благо, интерес города. Только этим единением мы можем побеждать… Было получено несколько приветственных телеграмм… Праздник этот только несколько был омрачен тем разладом, какой создался между лучшей частью общества и лучшими учителями с одной стороны и директором училища с другой… Начавшись с пустяков и разрастаясь в крупное разногласие, он в сути своей имел руководящий мотив. А так же поводом крайне ограниченные умственные способности директора, его чересчур болезненное самолюбие… Из разногласий с указанными лицами он мог видеть только одно, что все будто бы подкапываются под его директорский авторитет. Стремятся свалить его, устранить его… Все его дальнейшие поступки не только не смягчали и сглаживали обострившиеся отношения, а наоборот еще больше запутывали и раздражали враждующие стороны. Будучи по природе человеком ограниченным, директор Ретшер (статский советник Вольфганг Максимилианович Ретшер) совершенно отдалился от лучших элементов местного общества и сошелся с нравственным отбросом, выбирая как на подбор и в чиновничестве и в обществе все то, что было худшего. Но, правда, в данный момент имеющего влияние в той или другой степени… Результатом этого общения был донос на законоучителя реального училища отца Владимира (Купленского), в котором он обвиняется в пьянстве, разврате и «революционизме»… В доносе говорится, что он в компании с городским головой (сиречь мной), человеком с политическим прошлым, кадете, хитром, лживом и трусливом, стремятся внести разложение в школу (Это я то! Который, столько сил и энергии положил на ее создание!). Далее указывается на кадетствующую начальницу и на крайне левого учителя Ивана Васильевича Соловьева… Словом все враги директора аттестованы как крамольники, как неблагонадежные… Возмутительно подло бороться такими приемами со своими противниками… Но на другое от Ретшера и его присные и не способны!... Цель достигнута – учитель Соловьев переведен, переводится и законоучитель. Городскому голове через исправника передано: «Если он не хочет ссориться с губернатором, то пусть не травит директора Ретшера»… А я его никогда и не травил… Наоборот, многими своими бестактными поступками он меня только раздражал. И, конечно, я старался давать отпор ему… Шесть лет прошло с 17-го октября, а и до сих пор легко можно пугать, и даже очень выгодно, словом «неблагонадежный»… Под покровом же «благонадежности» и «православия» (поддерживаемого немцем Ретшером), можно обделывать свои темные и грязные делишки… Особенно много споров было по поводу неаккуратного (в нравственном отношении) пользования специальными денежными средствами. Из этих средств г. Ретшер устраивал синекуру своим приближенным служащим. Особенно дорог был его сердцу помощник классного надзирателя Пошневич (он - то и его действия и послужили главным поводом для раздора и недоразумений). Для него он создал должность личного секретаря председателя педагогического совета, смотрителя здания, временно приспособленного для реального училища (за этим зданием смотрит Городская управа). Дали ему единовременное пособие и прочее. Все это и возмутило некоторую часть преподавателей… Возмутило также и поведение самого Пошневича, который, пользуясь покровительством директора, третировал всех, начиная с директора, часто брал на себя по закону не принадлежащие права. Подчас был груб и нахален… Все это возмущало всех не потерявших еще самолюбия… В городе упорный ходит слух, что донос составлен троицей (исправником, директором и одним жалким евреем – семинарским учеником Костровским)… Получилась чудная картина в истинно националистическом духе… Католик-поляк (исправник, немец-лютеранин (директор Ретшер) и еврей донесли на православного священника. На основании их доноса над православным священником шло следствие… Мой сосед, протоиерей, заслуженный глубокий монархист и истинно русский человек пришел в ужас от этой травли православного священника инородцами… Его голова никак не может переварить такого противоречия… Да и никакая голова не может разобраться в этом, ибо сам отец Владимир (Купленский) – монархист, пожалуй, даже в истинно русском духе… Да, в нашей русской конституции теперь идет такая неразбериха, что и сам квартальный /17/ не распутает всего… Один черносотенник обвиняет другого в революционизме. Истинно русский немец Ретшер, истинно русский католик поляк Ясинский и истинно русский еврей Моисей Костровский обвиняют истинно русского православного священника… Вот до чего дожили… И при Плеве этого не было!... Обидно, больно, что все мои хлопоты, все мои старания об открытии реального училища и к чему привели… С 17 января 1910 г. и по 1 августа 1911 г. (всего 1 ½ года) сколько пертурбаций пережила школа! И все на почве неблагонадежности и кадетства (уже 2 учителя уволили и 1 законоучитель близок к этому)… Одно только и утешает, что не вечно же это будет, ведь изменится же наконец все это… Будет же впущен свежий, чистый воздух в школу… Мне сейчас вспомнилась славное стихотворение Минского (Минский Николай Максимович (настоящая фамилия Виленкин) — русский поэт и писатель-мистик, адвокат).
05.03. (18.03.) 1913 г.
Самые яркие моменты моей общественной жизни:
Избрание в городские головы в 1899 г.;
Поездка в Саров в 1903 г.;
Поездка в Курск на выставку по народному образованию и на земский съезд в 1904 г.;
Устранение от должности в 1906 г. и 1907 г.;
Преобразование женской прогимназии в 8-классную гимназию;
Открытие реального училища в 1910 г.
Поездка в Петербург в 1913 г. (300-летие Дома Романовых)
09.03. (22.03.) 1913 г.
Начну с воспоминаний о поездке в Санкт-Петербург на торжество 300-летия Дома Романовых. В первых числах января я получил официальное приглашение от губернатора Ошанина (Ошанин Никифор Фёдорович – губернатор Тамбовской губернии, действительный статский советник) пожаловать к нему «по делам службы»… Меня это немного встревожило… Ждал какой-либо кары… Я не привык получать от администратора ласкового приглашения… Думал, вызывает по поводу моей деятельности по выборам в 4-ю Государственную Думу… Оказалось, ошибся (в первый раз в жизни!)… Пригласил нас, голов, для обсуждения вопроса о поездке в Питер. От МВД было предложение командировать трех голов (1 губернского и 2 уездных)… Губернатор сказал: «Хотя мне и предоставлено право самому назначить кандидатов, но я это право передаю вам, городским головам. Прошу пойти в мою залу и там выбрать желательных кандидатов»… «Я знаю, что все вы горите одинаковым желанием побывать на торжествах и лицезреть Государя, но выбор должен быть произведен»… По запискам первым кандидатом прошел я (получил из 10 записок 7). Вторым кандидатом, после нескольких перебалотировок, оказался Козловский городской голова Калмыков… После заседания мы, головы, устроили завтрак, а потом и обед, на который пригласили губернатора… Губернатор Ошанин недавно только назначен после Муратова. Нельзя про него сказать, чтобы он был либерален. Он консерватор не менее Муратова, но много приличнее его. Формалист довольно большой, но зато от буквы закона не отступится, хотя лично ему и хотелось это сделать… Так что после Муратовского гнета Тамбовская губерния немного вздохнула… Нет того злобного гонения на либеральные периодические издания в библиотеках. Нет того произвола по отношению к служащим… Хотя отношение к евреям, к «неблагонадежным» не лучше Муратовского… Отношение к нам, головам, нормальное. Корректность видна и в предоставлении права избрания депутатов в Питер (оказывается, ни один губернатор этого не сделал)… За обедом поднят был вопрос, давно лелеянный мною (еще на Саровских торжествах, т. е. 10 лет тому назад) – об организации периодических съездов городских голов. Губернатор отнесся к этому сочувственно и, тем образом, съезды эти по всей вероятности осуществятся. Дай то бог!... Хотели в марте первый съезд устроить.
Начну теперь писать о своей поездке в Питер. Я так засиделся дома, да и мои личные и семейные дела так складывались за последнее время (после папиной смерти), что выезжать мне было очень трудно… Жизнь моя складывалась так, что наряду с торговыми делами, мне приходилось нести обязанности городского головы (я снова был выбран на 4-е четырехлетие). Опять 19 против 4-х, а потом и обязанности председателя Страхового общества (на эту должность я избран снова)… Словом, выезд в Питер был чем-то крупным, серьезным в нашей семейной жизни… А поездка еще по такому серьезному поводу усугубляла настроение. Мама настояла отслужить молебен… Приходилось шить костюм, мундиры и прочее… В городе начались разговоры. Дума на поездку мне дала 100 рублей…
Но вот я простился с семейными и поехал. Грустно было бросать семью… Я всю дорогу скучал, тосковал… В Москве у сестры устроил «смотр директоров», так как вошел в соглашение с князем Вяземским (Князь Борис Леонидович Вяземский — усманский уездный предводитель дворянства, историк и фенолог. Из рода князей Вяземских) о хлопотах перед Кассо (Лев Аристидович Кассо — российский юрист, государственный деятель, управляющий Министерством народного просвещения) по вопросу о замене Ротшера другим более идейным и интеллигентным человеком… Из всех лиц более всех мне понравился Дмитрий Дмитриевич Коринский (бывший инспектор женского института)… Теперь вопрос в том, удастся ли его устроить в Усмани… Подъезжая к Питеру, начал встречать все большее и большее число «депутатов»… Тут были и российское купечество, и мещане, и инородцы (с нами ехала целая комиссия персов и армян)… Курьезно, что было сделано распоряжение о льготном проезде по железной дороге всем депутатам… Но мы об этом узнали уже по приезду в Питер… Интересны беседы с русскими людьми… Все они построены оппозиционно по отношению к власти. У всех проявляется сознание собственного достоинства, глубокого уважения к общественному самоуправлению, к городской и земской деятельности… Еще интересно – сильное стремление к просвещению масс. Всеобщее обучение, средние учебные заведения, специальное техническое образование. Все говорят об этом… Все стремятся проводить на местах… Новая идея, захватившая обывателя – это кооперация… Всю дорогу разговор шел на эти темы… Но вот и Петербург… Спешу к градоначальнику. Там уже много народа. Билеты на торжества дают разнообразно. Чем выше чин, тем больше ему и мест на торжествах... Высшие чины – панихида в Петропавловском соборе, обедня в Казанском, представление в Зимнем дворце. Парадный обед в Высочайшем присутствии и вечер в Мариинском театре… Чем меньше чин, тем меньше ему удовольствий… Губернаторам, городским головам даются билеты на панихиду в Петропавловском соборе, обедню в Казанском, представление в Зимнем дворце и спектакль в Александринском театре. Уездным и еще меньше – Казанский собор, Зимний дворец и Александринский театр… У градоначальника толпа еще разнороднее и интереснее: и большие чины, и купцы, и мещане, и крестьяне… Кто в мундирах, кто в сюртуках, кто в поддевке… Наконец, получаю билет в Зимний дворец, Казанский собор и Александринку. Дают билет и нашему кучеру… 21 февраля начало торжеств. 18-го и 19-го Питер еще вяло готовится к торжествам, но 20 уже усиление. Особенно Невский проспект (ближе к Казанскому собору)… Картина получается красивая… Всюду зелень, гирлянды, национальные флаги, красные, желтые материи, грандиозные золотые короны, громадные мачты, щиты и прочее, и прочее… Народа на Невском все больше и больше… Но не чувствуется патриотического настроения. Скорее простое любопытство и только… Что-то сильно отдает казенщиной… Искренней радости, искреннего веселья нет… Да и отчего?... Кругом мало радостного… Общественная жизнь идет неладно. Нет живого духа, нет веры… Ни экономического подъема, ни широкой творческой работы не заметно… Надежды на манифесты не оправдываются… Долгожданная амнистия превращается почти в пустой звук…Все надежды и чаяния миллионов населения разбиваются…
14.03. (27.03.) 1913 г.
21 февраля в 10 ½ ч. утра я был у Казанского собора. Выехал с Петербургской стороны. Я был в треуголке, а кучер с билетом на шапке… Обыватели как-то особенно смотрели на нас (на Петербургской мы чуть ли не единственные были в таких нарядах)… Чем ближе к Невскому, тем все наряднее и оживленнее становился Питер… Но вот подъезжаем к Невскому. Оказывается, здесь не пропускают… Везде народ, везде полиция, войска… Едем обратно. Наконец, по Дворцовой площади между шпалерами войск и народа доезжаем… По дороге попадаются целые шеренги студентов университета с синими лентами через плечо – это академисты и монархисты… Вот попадаются единичные студенты в охранной линии… А вот целая группа добровольной охраны (а может быть, и не добровольной?), ведомая полицией мимо чиновников… Здесь и котелки, и шапки, и цилиндры… Народа много. Вид праздничный, но нет воодушевления… Народ собирается из любопытства посмотреть на диковинное зрелище… В соборе уже много народа… Все мундирные люди… Какая смесь мундиров, золота, серебра, цветов, материи!… Церемониймейстеры в своих золотых мундирах с жезлами и иконами ходят по собору и наводят порядок… А служба в это время идет. Но на нее мало кто обращает внимание… Церковь превращается в аристократический зал… Красиво поет придворный хор… Раздаются голоса митрополитов (служат: патриарх, три митрополита и прочее духовенство)… Но вот кончилась литургия. Все духовенство идет встречать царскую семью… Входит государь, государыня и императрица мать. Наследника на руках несет солдат… Наследника сажают в кресло. /18/ Государыня Александра Федоровна во время службы несколько раз садится. Но вот кончилась служба. Мы спешим к выходу. Слышится громовое «Ура», звуки музыки, пальба из пушек, звон колоколов… Наплыв народа громаден, так что трудно пробираться… Невский в это время был интересен… Весь запружен народом и войсками. Нет движения трамваев, экипажей. Вечером был раут в Городской управе. Я насилу дошел до Управы, так как извозчика я не мог найти ни за какую цену – все были разобраны петербуржцами, которые издали, смотрят иллюминацию, фейерверки и прочее… Раут был интересен… Собралось тысячи 1½. Общественные деятели, гласные Петербургской Думы, городские головы России, земские деятели, члены Государственной Думы, крупные чиновники, дамы… Залы очень красиво декорированы и все залито электричеством. Чудное угощение. Концертное отделение… Хозяева – председатель думы сенатор Иванов и заместитель городского головы Демкин очень любезны и приветливы… Встречи, знакомства. Всюду разговоры по общественным вопросам… Речей не было… Были только знакомства…
Утром 22-го представление в Зимнем дворце. Я раньше ни разу не был в этом дворце. Какое богатство, великолепие! Какие колоссальные залы… К 10 часам собрались все депутаты. Всего было около 2000 человек. Предводители дворянства, представители земств, городские головы, депутаты от учреждений, инородное население и прочие. Все в национальных костюмах… Но мундиры все заполонили…
Но вот застучали церемониймейстеры жезлами и растворились двери концертной залы (мы были в Николаевской) и депутаты стали входить гуськом один за другим. В этой зале стояли Государь, его дочери, мать, Мария Федоровна. Наследник сидел на кресле, но сидел так, что его плохо было видно.
Мы входили. Останавливались перед Государем. В это время министр внутренних дел Маклаков сообщал имя, звание и должность представлявшихся. Государь бросал на него взгляд. Обоюдно кланялись друг другу. Депутат шел дальше. Кланялся Государю, Марии Федоровне, и целовал у ней руку и шел дольше. Я на минутку остановился у входа и посмотрел на блестящую картину. Зал был полон людей в золоте и бриллиантах. Все как бы застыли и почтительно навытяжку стояли… Государь имел вид человека здорового, сильного с царственной осанкой… Я видел его 10 лет тому назад в Сарове, и какая громадная разница… Тогда робкий, конфузливый, бледный, худой… А теперь полный, с розовым лицом и царственной осанкой… Таким он мне показался в Казанском соборе. В Питере много ходит рассказов, о переменах происшедших с ним. Так говорят, что он серьезно следит за ходом думских работ, что в некоторых вопросах он энергично проводит личные свои взгляды… Политика инородческая, финляндская, вопросы еврейства – это все его личная инициатива…
В Гербовом зале для нас угощения. Стол a la four Chet, на столах масса всяких яств, сластей, фруктов. Есть и вино. Депутаты как саранча, скоро все обирают, рвут цветы на память, берут конфеты… Вступают в пререкания с лакеями… На прощание даются нам нагрудные знаки «Потомственные» (передающиеся первому в роде)… И все кончено. Да вечером спектакль в Александринке, довольно скучный бесцветный (пьесы: «Вступление Михаила Федоровича на царствие» Чаева и отрывки из Островского «Козьма Минин Сухоруков»). Многие места пустуют, особенно первый ряд… Не чувствуется оживления… Все говорят о Зимнем дворце. Все опечалены «мимолетностью», быстротой представления… Все ждали хоть какого-либо приветственного слова, но ни звука не было произнесено. Все прошло, как сон, как видение… Как видение промелькнули и эти чудные грандиозные залы, и эти золотом и серебром шитые мундиры, и весь блеск и роскошь… Все это было как сон!...
Сравнивая Саровские торжества с романовскими, я, лично, должен сказать, что первые оставили больший след в моих воспоминаниях… Тогда и Государя больше и ближе приходилось видеть и голос его слышать. И сам, лично, более активное принимал участие во всем. Здесь же скорее роль статистов, декорации мы исполняли… Скажу все-таки, что все власти были очень к нам корректны и предупредительны. И в этом отношении кроме чувства благодарности ничего нельзя выразить… Конечно, в общем, рутина гранд. От какой получилось и чем больше времени пройдет, тем она будет рисоваться грандиознее… Быть у источника власти 150-ти миллионного населения… Видеть Россию земскую, Россию городскую, Россию мужицкую… Вряд ли когда еще придется это увидеть!... Невольно мысль моя возвращается к 1903 году, к Саровским торжествам, где я также участвовал. Дело было летом, в июле месяце… Я ехал до Рязани по железной дороге, а потом до пристани Ватажки на пароходе по реке Оке, а с Ватажки до Сарова на лошадях (100 верст). Интереснее всего, конечно, поездка на пароходе, красивые виды, чудные вечера и ночи. Свежий бодрящий воздух… Все так было хорошо, а для меня и ново, так как я раньше не плавал на больших пароходах… Встречи, знакомства, разговоры… Чудные еловые леса в Сарове! Вьюнов ели… Славная, ласкающая и манящая к себе река… Красив и монастырь, затерявшийся в бору… Нас любезно приютил Темниковский староста Смирнов, /19/ очень неглупый, милый и любезный человек. Если бы не он, то нам, городским головам, негде было бы приютиться, ибо ни губернатор Лауниц (ныне покойный – убит в Петербурге), ни комитет монастыря (кн. Ширинский-Шихматов (Князь Платон Александрович Ширинский-Шихматов — министр народного просвещения, академик Императорской академии наук и писатель), архимандрит Серафим и прочие), никто о нас не заботился. Заботились о земских начальниках, о дворянах.
О высокопоставленных особах, заботились о большей денежной добыче. А о нас и о народе мало заботились… У меня с архимандритом Серафимом даже вышло «крупное» объяснение. Я знал, что есть свободные номера в монастырской гостинице (мне сказал консисторский чиновник), и пошел снимать номер. И чуть уже не снял, когда архимандрит Серафим (ныне Кишиневский архиерей, а ранее артиллерийский офицер, постригшийся в монахи, карьерист) (Митрополит Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов — епископ Русской Православной Церкви; с февраля 1928 года митрополит Ленинградский. Прославлен в лике святых священномучеников Русской Православной Церковью в 1997 году ) заявил, что номер снят. Вышло недоразумение – оказалось, он наврал из-за того, чтобы дороже сдать номер… В гостинице за одну кровать брали сумму, доходившую до 5 рублей в сутки (в номере стояло по несколько кроватей). Итак, благодаря Смирнову, мы получили приют. Спасибо ему! Мы в благодарность по окончании торжеств поднесли ему икону… Саров со своими бараками для народа, бараками для городских голов, с гостиницей, кельями, временными часовнями, в которых с утра до ночи служились панихиды по преподобному Серафиму (до открытия его мощей 19 июля), со своими паломниками, больными и увечными был велик, грандиозен и трогателен… Особенно своими паломниками… Более всего это был простой народ, весь больной, но полный страшной, глубокой веры… В жизни нет радостей – всё и все угнетает, издевается, эксплуатирует и нет правды на земле – «до бога высоко, до царя далеко»… Есть угодник, есть добрая, святая душа, которая всех привечала, всем давала радости души… Он святой, он услышит, он поможет… Особенно умилительны, в тоже время, жалки были больные… Я помню человека, у которого все лицо было съедено волчанкой. Я помню крестьянскую девушку лет 25, которая была так суха, что ей можно было дать 12 лет, не более. Я помню калек, я помню кликуш… Все это шло к «батюшке», угоднику Серафиму, чтобы он исцелил, помог… Да тут была чистая, святая, может и наивная, глупая, но вера, а не притворство… Конечно, были и ханжи, и обманщики, но больше было искренних, чистых людей… Каждый вечер до начала торжеств был какой-то лагерь крестоносцев, молитвенников… Ни пьяных, ни шуток, ни песен, а одни молитвенные песнопения… Только в доме земских начальников было веселье… Народу жилось в бараках плохо – грязь, теснота… Недостаток в провизии… Ежедневно много умирало… Я думаю, много умирало потому, что много серьезно больных приходило в чаянии исцелиться. Богомольцев было много, но особенно много их стало 17, 18 и 19 июля… большинство располагалось на открытом воздухе под вековыми елями и соснами… И от обилия народа воздух в этом чудном месте стал ужасный… Нечем было дышать – испражнениями, потом, грязью он был весь заражен… Становилось жутко… Но, к счастью, никакой эпидемии не было… Особенное оживление началось за день, за два до приезда Государя… На границе Темниковского уезда и Сарова была устроена арка и оригинальная палатка, где был встречен Государь представителями Тамбовской губернии. Надо отдать справедливость Лауницу – он здорово хлопотал и создал чудную картину. Было много бутафории, но вышло грандиозно… Нас собрали заблаговременно до приезда царя. Стояли так высокопоставленные особы: Воронцов-Дашков (Граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков — русский государственный и военный деятель из рода Воронцовых-Дашковых: министр, председатель российского Красного Креста, наместник на Кавказе) и еще кто-то, дворяне, земцы, городские представители, крестьяне. Погода была жаркая, даже душная… Перед днем приезда Лауниц устраивал репетиции… При этом был довольно груб и неделикатен даже с высокопоставленными лицами… На этих репетициях он как-то оскорбил даже графа Воронцова-Дашкова. А нас, представителей земств и городов, он унизительно называл (правда, за глаза) «статистами»… Зато очень благоволил к земским начальникам. Наконец настал торжественный момент. Точно не помню, или 17, или 18 июля часов в 2-3 дня мы все изображали очень живописную картину. Особенно красива была группа крестьян… Были выделены отдельно фигуры – красивая баба с лукошком яиц, два крестьянина в живописных костюмах (один в белой рубашке, набойчатых штанах, лапотках и шляпе-гречневяке. Сам белый как мука, вообще – театральная фигура. Другой в темном кафтане с чудной большой бородой). Татары в национальных костюмах, мордовки в своих костюмах и прочее, и прочее… Стоим довольно долго и ждем курьеров, а их по дороге поставлено много… Между прочим, когда устраивали дорогу (кажется от Арзамаса), то денно и нощно ее караулили мужики… Перед приездом царя во всех селах, через которые проезжает государь, были закрыты все сараи, амбарушки. И все это было запечатано сургучной печатью… Придворные экипажи приехали за день раньше. Их было так много, что трудно было пересчитать… С этими экипажами приехал знаменитый привилегированный странник «старец» Василий (ходящий и зиму, и лето босой и без шапки). Умное, хитрое лицо с длинной бородой. В руках у старца Василия громадный жезл с крестом. Весь испещрен надписями. Есть и подпись Иоанна Кронштадтского (Иоанн Кронштадтский; мирское имя Иван Ильич Сергиев — священник Русской Православной Церкви, митрофорный протоиерей; настоятель Андреевского собора в Кронштадте; член Святейшего правительствующего синода с 1906 года (от участия в заседаниях уклонился), член Союза русского народа. Проповедник, духовный писатель, церковно-общественный и социальный деятель правоконсервативных Монархических взглядов (крайне негативно оценивался официальной пропагандой в СССР), Почётный член Императорского Православного Палестинского Общества). Этот старец в то время при дворе пользовался большим покровительством (кажется и теперь), поэтому держал себя очень независимо. Он все время продавал листовки со своей биографией и делал сборы на построение храма у себя на родине… В последнее время этот Василий вел поминки с Илиодором (Сергей Михайлович Труфанов; в монашестве Илиодор — иеромонах-расстрига, русский духовный и политический деятель). Не знаю пользуется ли теперь покровительством Василий, но думаю, что да, как и знаменитый Григорий Распутин… Однако возвращаюсь к старому… Наши ожидания наконец прекращаются – скачет курьер с сообщением, что Государь близко… Всё замолкает, подтягивается… Но вот еще курьер, более важный, а вот и экипаж Государя. Он выходит, за ним Мария Федоровна. Они о чем-то долго разговаривают (ждут, очевидно, Государыню, Александру Федоровну). Одет по дорожному, просто… Начинается представление. Прежде всего, Лауниц с рапортом. Потом губернский предводитель дворянства. Потом Государь и Государыня идут к дворянам. Государыня дает целовать руку. Потом земские начальники (земские начальники объявляются личной охраной Государя Императора)… Потом земцы, и, наконец, городские представители. Я близко вижу Государя. Небольшого роста, худой, утомленный. На лбу красная опухоль (последствие покушения в Оцу), очень конфузливый… Смущенно слушает речь Городского головы Рымарева (о сем расскажу после). Неловко кланяется… Государыня Александра Федоровна с каким-то грустно-недовольным лицом (на щеке довольно большое пятно красной сыпи – экземы), на миг освещаемое улыбкой, подает Рымареву руку в перчатке для поцелуя… Государь спрашивает:
– «А Темниковский представитель где?». Смирнов выходит. Государь к Лауницу – «Мы поедем мимо Темникова?».
– «Никак нет Ваше Величество!» – отвечает Лауниц. Государь:
– «А сколько верст до Темникова?»
– «Сорок Ваше Величество!» – отвечает Лауниц. Смирнов стоит в молчании…
– «А-а-а» – говорит Государь – «Спасибо!». Кланяется нам и идет дальше… С крестьянами такие разговоры:
– «Ты где служишь?» – спрашивает какого-либо старика.
– «Его Императорского Величества такому-то полку»… По-солдатски отвечает старик.
– «За что медаль?»
– «За такое-то сражение, Ваше Императорское Величество»…
В этом роде и у других… Крестьяне в восторге окружают царя. /20/ Не забуду и торжественного чая, устроенного тамбовским дворянством для Государя. Устроителями были наши дворяне И.В. Павлов и С.Ю. Прибытков. Оба теперь разорились, попали под суд за растрату. Устройство чая стоило дворянам 30 тысяч. Было хорошо… Государь был очень любезен. Веселы и Государыни. Государь поднял бокал за процветание дворянства вообще и в частности тамбовского. Пробыл Государь не более получаса. Говорил больше с придворными и с Тамбовской губернии предводителем дворянства… Разговор шел больше на французском языке…
Крики «Ура» все громче и громче… Государыни любуются серебряными и металлическими украшениями на груди мордовок. Краснощекая баба – «щекотуха» отчеканивает: «Дай бог царь-батюшка и царица-матушка, чтобы у вас было столько же детей, сколько у меня яичек в лукошке»… Шум и радостные крики все увеличиваются. Наконец, представление населения окончено.
Государь садится в экипаж, садят и остальных. И вот от массы экипажей и громадного количества песка и жары поднимается такая ужасная пыль, что дышать нечем!... Я прямо задыхаюсь. Мне дурно, я закутываюсь, но пыль и песок лезут в нос, горло… Тошнит… Измученные и усталые мы приезжаем домой. Балагурим, шутим. Лебедянский голова Чурилин (ныне умерший), подходит к каждому из нас. Лобызает и поздравляет с радостью!... Вечером торжественная всенощная. Перенесение мощей и прославление их… Картина грандиозная… Государь, великие князья, /21/ несут гроб св. Серафима из церкви, где его мощи до прославления сохранялись, несут в главный собор. Так как за монастырские стены допускают по билетам и по особому разрешению, то тут такой строгости давно не испытывалось и особа Государя так тщательно не охранялась. Я долгое время шел рядом с ним… А какое чудное, грандиозное и жуткое зрелище представляло это шествие. Обе стороны дорожки, по которой несли мощи, были усеяны народом, преимущественно больными и чающих движения… Рыдания, стоны, крики, истерики, слезы, все это смешивалось в какой-то грандиозный шум. Вся толпа стояла на коленях. Молилась, рыдала… А гроб медленно, тихо колыхался… Но вот и собор. Он наполнен избранными, но их очень много… Идет служба. В конце всенощной настает самый торжественный момент – прославление мощей. И вот в соборе настает тишина… Слышится треск разрываемых печатей… Радостное песнопение, прославляющее нового чудотворца… Крики кликуш, стоны больных, все это сливается в какой-то торжественный, ликующий гул… Потом началось прикладывание к мощам, начались чудеса… Но об этом после…
Я вышел из собора и пошел к своему бараку. Ночь была тихая-тихая, чудная… За монастырем тянется речка. И вот открылась чудная картина. Те паломники (целый лагерь их), кому не удалось попасть на торжества, расположились у реки. Развели костры и с зажженными свечами славили и величали угодника… Хор не был строен, но благодаря громадной массе молящихся паломников, звуки молитв сливались воедино. Получалась какая-то титаническая гармония звуков, высоко к небу, к богу несущихся… А с неба смотрит полная луна, ярко горят звезды… Я засмотрелся на эту картину и проникся глубоким уважением к этим чудным людям, за сотни, тысячи верст идущим в страшных лишениях и нужде поклониться новому угоднику… Вспомнилась и другая, более привилегированная толпа, там в стенах монастыря, видевшая и участвовавшая в торжествах. И все симпатии у меня были на этой стороне, к этим паломникам, устроивших храм под сводами синего неба…
19-го утром, до обедни, мы, городские головы, представлялись Плеве, всесильному временщику… Он был любезен и деликатен с нами. Спрашивал о бюджете, о городских делах… И хотя наш ответ, влетая в одно его ухо, сейчас же вылетал из другого, но он умел так делать, что казалось, он очень заинтересован нашими делами… Теперь Плеве нет. Он убит… Его умное лицо, с холодными, ледяными, стальными глазами в памяти у меня… Помню и других министров – Хилкова (Князь Михаил Иванович Хилков — русский государственный деятель, министр путей сообщения Российской империи, действительный тайный советник), Фредерикса (Владимир Борисович (Адольф Антон Владимир) Фредерикс — российский государственный деятель; последний в истории Министр Императорского Двора Российской империи. Канцлер российских Императорских и Царских орденов; генерал от кавалерии, генерал-адъютант; граф (до 1913 года — барон)), великого князя Сергея Александровича (тоже погибшего)…
Осталось записать обед у игумена в Высочайшем присутствии, отъезд Государя и прогулку по монастырям. Но это после. Сильно устал…
15.03. (28.03.) 1913 г.
Докончу воспоминания о Саровских торжествах… В дворянском павильоне, где собраны были все сливки тамбовской администрации и самоуправления, а так же и петербургского высшего общества. Были, между прочим, великий князь Сергей Александрович (убит Каляевым), Плеве – М.В.Д. (убит Сазоновым), Лауниц (убит в СПб), Хилков – М.П.С. (ныне умерший), Фредерикс – министр Двора, обер-церемониймейстер граф Гендриков (граф Василий Александрович Гендриков — обер-церемониймейстер, состоящий при Императрице Александре Федоровне, и 2-х дочерях) (также, кажется, покойный), великие княгини Елизавета Федоровна (при рождении Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадская — принцесса Гессен-Дармштадтская; в супружестве (за русским великим князем Сергеем Александровичем). Почётный член и Председатель Императорского Православного Палестинского Общества. Основательница Марфо-Мариинской обители в Москве. Почётный член Императорской Казанской духовной академии), Ольга Александровна (Ольга Александровна — Великая княгиня, младшая дочь императора Александра III Александровича и императрицы Марии Фёдоровны — после Николая, Александра, Георгия, Ксении и Михаила. Художница) и многие другие. По просьбе собравшихся Государь изъявил согласие сняться со всеми… Фотографов было много, и они следили за каждым шагом государя… Особенно энергичен был в этом отношении генерал Несвитевич (Александр Александрович Несвитевич — служил в лейб-гвардии егерском полку. Позднее стал флигель-адъютантом Александра II, учил его фехтованию, передавал это военное искусство и Александру III. Одарен был также талантом фотографа, фотографировал при дворе), к которому Государь был очень благосклонен. Государь держал себя очень просто и доступно… Он был очень почтителен к духовным, всегда подходил под благословение и целовал руку… Я помню один случай. Государь хотел осматривать достопримечательности монастыря. Мостки, по которым проходил Государь, всегда окружались народом. Около мостков примостился какой-то сельский батюшка. Государь всегда ходил быстро, смотря вперед. Вдруг он внезапно остановился около батюшки, повернулся и, сложив руки, подошел под благословение. Сельский батюшка смутился, взволновался, но благословил Государя. Тот поцеловал руку у священника… Думаю, что до конца жизни батюшка будет помнить об этом событии… По бытовым чертам интересен был обед в покоях игумена в Высочайшем присутствии… Государь, высочайшие особы и высшие начальственные лица сидели в главном зале. А земские начальники, мы, головы, земцы, иеромонахи в боковом, отделявшимся аркой… Около меня сидел скромный монах, бедный, а против - монах другого типа (жадный, нахальный). Этот монах не только заботился о себе, но все уговаривал скромного больше класть в карманы всяких яств и фруктов… «А то когда-то еще придется поблаженствовать». Скромный монах конфузился, смущался и мало слушал коллегу. Зато тот работал за себя и товарища, и все ел, усилено, и усилено клал в карманы. Он страшно волновался, что нам поздно подавали, и все боялся, что нас пропустят. Вечно лез к лакеям… Судьба зло над ним посмеялась, когда подали ему кофе, Государь встал из-за стола и ему пришлось выходить также, недопивши…
Памятен мне отъезд Государя. На выезде из Сарова стояла временная часовня. В ней архиерей Иннокентий (Тамбовский архиерей Иннокентий, бывший инспектор Томской гимназии) служил напутственный молебен. Часовня стояла высоко и была окружена несметным количеством народа (чиновниками, монахами, богомольцами и, вообще, народом)… Вот Государь вышел и, очевидно, его поразила грандиозная картина – море голов, обращенных взором к нему, «источнику» радости и счастья народа… Он остановился, и чувствовалось, что он хочет что-то сказать народу. Это видно было по глазам, по выражению лица… Все замолкло, затихло в ожидании… Но Государь посмотрел кругом и … молча, поклонившись, стал спускаться по ступенькам лестницы к экипажу… Народ заволновался. Крики «Ура» стали громче и громче… Бабы крестьянки стали бросать в экипаж Государя и Государыни холстины, полотенца и прочее… Их очень много сложили в экипаж. Но вот поезд тронулся, и вся царская фамилия уехала из Сарова…
Запомнилось мне путешествие к «святому» колодцу (по преданию он вырыт св. Серафимом). Над колодцем имеется часовня… Еще за версту, или даже более, вы слышите какой-то гул человеческих голосов. Звуки с приближением к колодцу все растут и растут… Когда вы совсем близко подходите, что-то страшное, жуткое обнимет вас… Истерические крики, хохот, стоны больных, плач детей, шум толпы… В часовню входят больше зажиточные и, спустившись вниз, становятся под душ ледяной воды из источника (колодца). Больных несут на руках… Дети начинают барахтаться, не хотят. Протестуют и кликуши… Я видел больного после душа… Он имел вид умирающего. Говорят, были случаи смерти после купания. Простой народ, более бедный, купался вне часовни в тех обильных стоках, которые вытекали из часовни… Здесь не стесняясь, купались и мужчины и женщины… Самые теплые чувства я вынес от соприкосновения с этим верующим народом… Какая глубокая вера, какая безотчетная, бескорыстная преданность всему чистому, светлому, святому… Какое отвержение себя во имя чего-то светлого, чистого, прекрасного (в лице св. Серафима, какого-то затворника, какой-то полоумной старухи, о которой говорил у меня в доме Лауниц)… И зато как отвратительны, гадки были монахи!... Торгаши, жулики (крали деньги, собираемые во временных часовнях за панихиды по преподобному Серафиму). А жадность, а лень!... Один рассказывал мне, что от долгой ходьбы он очень устал, и его стала мучить жажда… Он стучался во многие кельи, прося стакан воды, и монахи грубо ему отказывали… С приезжающих они драли за все… А в Дивеевском (женском) монастыре, где собрано много реликвий св. Серафима (его одежда, топор, тапочки и прочее), в каждом киоте с дорогими верующим вещами в стеклах прорезаны дверки для монет… И вот на всех этих святых предметах лежат грудами монеты… И это нисколько не смущает корыстолюбивых монахов…
17.03. (30.03.) 1913 г.
Решил записать воспоминания о выборах в Государственную думу по Тамбовской губернии, в которых я принимал активное участие. От города у нас было два выборщика – по первой курии был я, по второй курии – помощник присяжного поверенного Русанов М.Д. От землевладельцев – Стерлигов (помещик Черниговской губернии), князь Вяземский (предводитель дворянства), Бочаров и Севостьянов (помещики-прогрессисты). Крестьяне бесцветный элемент… Начну с предвыборной деятельности. По 1-й курии (более «аристократической») агитации никакой не было, да и не могло быть… Много было за мной обеспечено… Что касается 2-й курии (более демократической), то здесь могла еще быть борьба. Наше население политически не воспитанное, а благодаря деятельности Муратова и те ничтожные ростки, которые было, начали появляться, совсем заглохли… Так что ни о какой агитации почти и разговора не было… Только под конец, когда стали говорить много газет о выборах, начала и наша сонная публика шевелиться… Русанов устроил предвыборное собрание. На него пришло человек 40 (больше всего учителей и чиновников)… Никто не хотел выступать. Долго я призывал публику высказать свои взгляды (я был избран председателем собрания)… Но все упорно молчали. Говорил один Русанов. Он развил кадетскую программу. В конце концов, он был избран кандидатом от 2-й курии… Но на этом собрании был один нехороший человек (И.Н Попов), мой подчиненный, который мечтал пройти в Думу, и он поднял агитацию против Русанова… Соединившись с исправником он начал агитировать за себя… При этом не брезговал ни какими средствами. Городовые ходили и «убеждали» избирателей, а неграмотным давали уже заполненные бюллетени. Всюду заявляли, что исправнику очень не хочется иметь Русанова выборщиком, а лучше Попова. Комичнее всего еще то, что за выдачу бюллетеней за своего кандидата в участке ухитрялись все-таки брать с обывателя-избирателя взятку в 5 – 10 копеек… Однако, не смотря на усиленную агитацию самыми даже незаконными способами, Попов провалился грандиозно, не получив, даже, и 100 голосов. Русанов прошел громадным большинством… Тогда Попов написал донос на Русанова, что он призывал к мятежу на предвыборном собрании. Этот его донос также провалился. Так как на предвыборном собрании все время находился исправник. Итак, I-е дебаты кончились… Наступил II-ой акт в Тамбове…
18.03. (31.03.) 1913 г.
В Тамбов я приехал дня за три до выборов и отправился к лидеру Прогрессивной группы А.Я. Шимедиеву. Группа наша включала лиц от Мирнообновленцев до Социал-демократов… Всех нас с сочувствующими набралось человек 30 (из 120). Благодаря своей стойкости, идейности и убежденности, нашей группе удалось провести 2-х кадетов, 1-го мирообновленца и 1-го умеренного прогрессиста… Думаю, что надо отдать справедливость и губернатору Ошанину – он вел себя в избирательной компании очень тактично и корректно. Никаких разъяснений, никаких беззаконных поступков с его стороны не было совершенно… Конечно, будь в Тамбове Муратов, от Тамбовской губернии пошли бы все союзники и монархисты… А теперь удалось провести и элемент прогрессивный. Ошанин допустил избирательную агитацию не только со стороны правых, но и оппозиции. В Тамбове и других городах были предвыборные собрания. Вывешивались и расклеивались плакаты с именами кандидатов и прочее… Один только факт можно отметить – приказ через исправников и становых, чтобы крестьяне-выборщики приехали как не можно позднее на выборы (накануне) очевидно в тех видах, чтобы их не могли распропагандировать прогрессисты на предвыборных собраниях. За 3 дня начались предвыборные собрания. Их устраивали прогрессисты… На первое собрание пришло очень мало выборщиков и его пришлось распустить. На второе пришло – человек 40-50. На третье человек 60. Правые таинственно собирались в Серафимовском училище и там обрабатывали крестьян… Ораторами на собрании выступали исключительно прогрессивные выборщики (А.Я. Тимофеев, М.Д. Русанов, Варыпаев, Вакар, Преображенский, и др.). Красивее всех говорил Тимофеев. Его речь зажгла душу одного священника (г. Липецка), Суворова. Все речи его клонились к тому, чтобы заглянуть в душу священникам, являющихся ставленниками обер-прокурора и работающим не за совесть, а за страх. А так же, в душу крестьян, не могущих широко взглянуть на это большое государственное дело, а глядящих на него с узко меркантильной точки зрения… Красиво и симпатично говорил Варыпаев (помощник присяжного поверенного). Его голос, дикция, лицо, все располагало в его пользу. Его корректное обращение и сама речь поколебала душу не одного правого. Судьба этих двух лиц (Тимофеева и Варыпаева) очень трагична. Тимофеев, избранный в Думу почти насильно, так как он долго отказывался в силу домашних, семейных и др. причин, чуть не на другой или третий день по отъезду, понес страшно-тяжелое несчастье. У него умер единственный, горячо любимый им сын. Из Петербурга он к нему приехал уже к мертвому… Эта смерть сделала из Тимофеева почти мертвого человека, как говорил Андрей Иванович Шингарев (Андрей Иванович Шингарёв — земский, общественный, политический и государственный деятель, специалист в области государственного хозяйства и бюджета от либеральной общественности, врач общей практики, публицист). Из горячего общественного деятеля он стал равнодушным, безучастным ко всему /22/.
С Варыпаевым случилось еще более трагическое обстоятельство… Несомненно, у него были какие-то недоразумения с женой… И вот, прейдя с какого-то вечера и бурно поговорив с женой, он увидел, как жена вбежала в спальню и заперлась… Раздался выстрел. Варыпаев взломал дверь и обнаружил мертвую жену. Он схватил револьвер и тут же застрелился…
Речи всех прогрессивных ораторов касались мысли, что надо действительно осуществить манифест 17 октября. Надо изменить избирательный закон, дающий в данный момент все привилегии только поместному дворянству… Правые молчали. Выступил беспартийный козловский городской голова Калмыков и сказал, что никаких партий и программ не нужно, а нужны люди, их и следует выбирать, не справляясь какой они партии.
Лебедянский Кошелев (слепой) стоял на точке зрения, что депутат есть
ходатай по делам уезда, а посему надо выбирать, во-первых, обязательно по
одному представителю от уезда, а во-вторых, лиц с весом, с влиянием… Еще
была хороша речь священника Суворова, вдохновленная речью Тимофеева.
Во-первых, вид его бледного, худого лица, с горячо блестящими глазами,
обрамленного черными волосами, производил сильное впечатление. Но еще
более сильное впечатление производила его вдохновленная, страстная,
горячая речь… Он говорил о том, что им, священникам не здесь место. Их
место у престола, их работа над душами человеческими. Звать их в другое
царство, царство правды, добра… А их заставляют идти не за тем, кого
хочешь, а за кого прикажут… Это насилие над совестью, над душой… Его
речь произвела сильное впечатление. Архиерей его наказал за речь, лишил
благочиния и еще чего-то, и пригрозил большим наказанием… Над другим
выборщиком (нашим Русановым) губернатор произвел насилие. Он
предложил председателю Управы уволить его из секретарей за то, что он
говорил в Тамбове возмутительные речи (о выборном законе, против дворян и
пр. – самая шаблонная речь)… Комично то, что кары обрушились на человека
безыдейного, неискреннего и, во всяком случае, мало опасного… Вообще
Русанов на выборах показал себя не с особо хорошей стороны (Тимофеев
говорил, что из него в Думу выработался бы новый Гололобов)… Комичен на
выборах был граф Перовский-Петров-Соловово с его наивно-глупой
программой консервативного конституционализма… Прежде всего, он глуп. Во-
вторых, ограничен. В-третьих, он дипломат… При дебатах и спорах, он
быстро соглашался выкидывать целые параграфы из своей программы, не
нравившейся публике.
Кто был противен, так это Марков I. Это такая гнусная фигура, такая черная душа!... Как страстно хотелось нам его выбить из депутатов, но так и не удалось! Его противниками были я и Русанов. Я получил 46, Русанов 50, а Марков 54…
Познакомился я на выборах с Новосильцевым (Леонид Николаевич Новосильцев — русский офицер и политический деятель. Член Государственной думы ), известным общественным деятелем… Он больше молчал, но иногда высказывал остроумные «словечки». Познакомился я и с князем Волконским (Князь Владимир Михайлович — русский общественный и политический деятель, член Государственной думы от Тамбовской губернии. Товарищ председателя III и IV Государственных дум.), товарищем председателя Государственной думы… Он был со мной очень любезен и мил. Все время очень славно беседовал, шутил и, как мне казалось, заискивал во мне… Он сказал, что часто говорил обо мне с Шингаревым… Спрашивал, где я сам в Думе, много ли левее Шингарев?… Потом объяснил, что хотел меня провести вместо Тимофеева… Я не верил его словам. Оказалось, он был искренен по отношению ко мне (это мне подтвердил А.И. Шингарев, которому князь Волконский по приезду все рассказал обо мне, а так же о том, что я ему очень понравился)…
Подведя итоги выборам, должен сказать, что мы, прогрессисты, не даром трудились. Благодаря нашей сплоченности, нам удалось провести двух кадетов (определенных), одного мирнообновленца (несомненного), поддержать одного прогрессиста… Сама процедура выборов очень скучная, все-таки сильно захватывала и заставляла много думать, делать, рассчитывать… А выборы (счет шаров) ждали с нетерпением и напряжением… То рукоплескали правые, то прогрессисты. Все выборщики разделились на две группы. Правая (79-80) и прогрессисты с примкнувшими к ним (35-50)… Вот между ними шла борьба… Моменты бывали жуткие… Особенно когда нам изменил наш член городской голова (Елатимский) Замешаев… По городским куриям (I и II) правые не могли выставить своих кандидатов. Потому как по этим куриям прошли исключительно прогрессисты, и борьба правых заключалась в том, чтобы не пропустить по этим куриям более ярких представителей (Тимофеев). Правые предлагали более не ярким представителям прогрессивной группы, но, безусловно, порядочным (председатель Темниковской земской управы Владимирова, Носкова). Но они отказались ставить свою кандидатуру по предложению правых. Тогда правые обратились к нашему Русанову. Он после значительных колебаний и по настоянию прогрессивной группы, так же отказался… Но один, Замешаев, соблазнился… Обидно, что Замешаев участвовал в самых интимных наших заседаниях и изменил нам… Поднялась буря негодования. Его уговаривали, его упрекали. Но он был упорен. С трепетом душевным его урна была поставлена с Тимофеевской рядом. Началось баллотировка и Замешаев получил на несколько шаров больше Тимофеева, но оба не получили абсолютного большинства…
У нас на сердце отлегло… Мы надеялись на относительной баллотировке провести Тимофеева. Замешаевский поступок восстановил против него некоторых порядочных людей из правого лагеря… Многие стали возмущаться его поступком… И все это взятое вместе (и стыд, и боязнь провалиться) подействовали на Замешаева так, что он снял свой ящик и Тимофеев прошел абсолютным большинством…
Месяца через три, после этого инцидента, я встретил Замешаева и он, как ни в чем не бывало повидался со мной и начал разговор о своем либерализме… Теперь скажу о себе несколько слов. Я не собирался пойти в Думу, так как мои семейные были против. Были против и горожане (некому главенствовать)… Так я держал себя… Но был момент, когда я чуть было не попал в Думу… Когда баллотировался по I курии Вакар (Василий Модестович Вакар — русский судебный и общественный деятель, член IV Государственной думы, товарищ председателя Прогрессивной фракции), то представители торгово-промышленного класса заявили, что они будут проводить меня. Я категорически отказался. После настоятельных требований, я заявил, что буду баллотироваться, если Вакар будет забаллотирован… Был тяжелый и страшный момент ожидания… Не скрою, чувство тщеславия говорило мне – приятно быть депутатом, но совесть и размышления, а так же мой характер говорили другое – в Думе я буду пешкой, ничего творческого, ничего оригинального внести не могу, а здесь в Усмани я нужен… А потом ликвидация торгового дела, всего уклада жизни и на какой-нибудь, может быть, год… Я пережил много тяжелых минут… Перед баллотированием Вакара подходит князь Вяземский и говорит, что ранее он шел с правыми. А теперь он от них отметнулся из-за некрасивых поступков и решил идти свободно, во многих случаях примыкая к прогрессистам… "Вот и теперь Вы знаете мое отрицательное отношение к Вакару (он ранее говорил мне, что будет идти против него)"… А теперь я подаю бюллетень за него Благодаря единственному шару князя Вяземского, Вакар прошел. Он получил большинство одного шара… И я был спасен, хотя тщеславная мечта была омрачена… Тимофеев мне, потом говорил (и писал), что он жалеет, что мало знал меня ранее. А то бы он всю энергию употребил на то, что бы избрали меня… Он меня полюбил и почувствовал ко мне уважение… "И, конечно, Вы были бы ценнее и дороже Вакара"… Под конец я должен был выставить свою кандидатуру в борьбе с Марковым по приказу группы… Я не хлопотал за себя и получил на 8 шаров меньше Маркова… Если бы я прибавил больше энергии, похлопотал кой перед кем (как делал Русанов), я бы был избран. Но я этого не сделал… Теперь после важного отношения князя Волконского ко мне, я думаю, что на следующих выборах у меня является много лишних шансов за то, чтобы попасть в V Думу… Общее впечатление от выборов – целый ряд новых знакомств, новых встреч, переживаемые моменты душеных подъемов, радостей и огорчений… Временное отвлечение от скучных жизненных будней, сознательная общественная работа… Наконец, свободные, смелые речи… Все это радовало и волновало…
И вот я невольно возвращаюсь к далекому прошлому. Лет 13-14 тому назад (конец 1899 или 1900г.) я был в Курске на нелегальном Земском съезде – на зарождении будущего русского парламента… Там говорились очень смелые (по тому времени) речи, но о конституции, о Государственной думе тогда мечтали только тайно… Здесь были граф Гейден (Граф Пётр Александрович Гейден — тайный советник, видный российский судебный общественный и политический деятель, член I Государственной думы. Внук флотоводца Логина Гейдена, командовавшего русскими кораблями в Наваринском сражении), Стахович (Михаил Александрович Стахович — русский политический деятель, поэт. Племянник известного писателя 1-й половины XIX века Михаила Александровича Стаховича), князь Долгорукий, Шаховской (князь Дмитрий Иванович Шаховской — российский общественный и политический деятель. Министр государственного призрения Временного правительства) и многие другие, будущие депутаты I Думы… Говорилось намеками, говорилось несмело, но чувствовалось что-то живое, светлое…
В Курске был съезд учителей… Читал лекции Рожков, священник Петров и многие другие известные в то время люди… Все слова, все речи сводились к тому, что так жить, как мы живем, не возможно… Занималась заря… Поднимались вопросы о народе, образовании, о средней школе (прекрасный доклад ныне умершего А. Острогорского (Виктор Петрович Острогорский — русский педагог, литератор, общественный деятель.), бывшего директора Темниковской школы), высказывали новые взгляды, излагалась новая программа. Помню речи в Сапоговской колонии для умалишенных, где мы были для осмотра. Особенно интересна речь В.Н. Ладыженского (Владимир Николаевич Ладыженский — русский поэт, прозаик, общественный деятель). Приблизительно так: мы в доме сумасшедших… Мы здоровые, а там больные… Да так ли? Не страдаем ли мы? Нет ли у нас навязчивых идей, мыслей? Наша знаменитая теория «православие, самодержавие, народность» не есть ли те же бредовые явления?... Пожелаем же себе выздоровления… Пусть исчезнет вера в этих трех китов!... Взрыв аплодисментов… Хлопал и г. Суковкин (Николай Иоасафович Суковкин — русский офицер и государственный деятель, смоленский и киевский губернатор, сенатор), курский земец и, кажется, предводитель дворянства… Потом я этого Суковкина видел в Тамбове… Вице-губернатор!... Теперь он губернатор и усиленно занимается изгнанием крамолы… Что-то вспоминает ли он Курский съезд!...
Еще воспоминания… Вскоре после земского съезда и выставки по народному образованию в Курске, дай бог, состоятся маневры в Высочайшем присутствии, почему в Курске был большой наплыв военщины… Лучшая гостиница и ресторан (не помню названия) занимались земцами и военными. Большая ресторанная зала, разделенная /……./, занималась поровну, в одной – земская сила, в другой – военщина. Разговоры – здесь о будущем России, там – проекты, планы маневров, маршировки, дисциплины. Помню беседу мою с Рожковым и В. Н. Ладыженским. Рожков говорил, что конституция у нас будет лет через 7, а Ладыженский приурочивал к 50-летию освобождения крестьян. И так странны, наивны и невероятны, казались тогда эти беседы под аккомпанемент шпор, сабель в соседнем отделении, где собрался генералитет… А предположение Рожкова оправдалось менее чем через семь лет… Наступило 17октября 1905 г…. Правда после этого дня наступили сумерки… Но это временно… Идея брошена, ее не задушишь… И хотя жалкие выборы депутатов, а идут… И хотя везде гнет, преследования, а кадеты, социал-демократы попадают в Думу. Говорят свободные речи и в Думе, и на предвыборных собраниях… Тогда в Курске мы не могли представить. Пусть сейчас это изуродовано (это возмутительно!), но это временно… Это неизбежно. Такой колоссальный переворот не может гладко пройти в стране с 150 миллионами разнородного населения. Настанет момент, когда все эти путы, весь этот налет неправды, насилий слетит, и мы начнем жить спокойной жизнью…
Еще хочется записать о моих встречах, недоразумениях, конфликтах с разного рода властями… Но это после…
24.03. (06.04.) 1913 г.
Вспоминаю сейчас событие, бывшее 7 лет тому назад. В этот день, канун благовещенья, я получил «благую весть» от губернатора Янушевича. В декабре 1905 г. я был уволен от должности городского головы губернатором фон дер Лауницем «на основании Положения о чрезвычайной охране», введенной в г. Усмани (по закону устранение лиц служащих по выборам может быть произведено администрацией только при чрезвычайной охране), Фон дер Лауниц ждал этого момента, чтобы мне отомстить. А отомстить за приписку в телеграмме – «только не казаков» /23/ … А отчасти и за мой либеральный дух. И чтобы я не мог участвовать в выборах в I Государственную думу… Городская дума отнеслась очень сочувственно ко мне. Постановили выразить через особую комиссию сочувствие и соболезнование мне…
Постановив выдавать жалование и просить о восстановлении в должности… Вскоре после этого Лауниц выбыл из Тамбовской губернии градоначальником в Питер (где был вскоре убит). А к нам назначили Янушевича – «либерального губернатора»… Жители и гласные послали губернатору просьбу о восстановлении меня (подписей, было, кажется, 200)… И вот Янушевич меня допустил… Янушевич оказался не ко двору тамбовским дворянам за свой «либерализм» и его перевели, кажется, на Кавказ. А к нам назначили знаменитого Муратова… Но с Янушевичем у меня все-таки вышло одно неприятное объяснение… Поводом послужили доносы на меня местных властей – о моем сочувственном отношении к крестьянам-аграрникам, которых административно высылали из разных губерний в Усмань (я дал им бесплатно городское помещение для проживания). Так же о моем сочувственном отношении к усманским крестьянам-бунтарям (семьям сидевших крестьян я давал деньги, присланные мне добрыми людьми). И, наконец, о продаже в библиотеке открытых писем с выборгским воззванием. Я заведовал книжной торговлей. Поэтому нравственную ответственность нес за это дело я. Хотя фактически я был здесь не причем, ибо получение открытых писем и продажа их совершилось в мое отсутствие и без моего ведома… Вот в силу этих-то обстоятельств и пригласил меня «либеральный» Янушевич… Он говорил деликатно, но повышенным голосом. Грозил мне ссылкой в места не столь отдаленные, но, выслушав мои объяснения, удовлетворился ими и отпустил меня с миром, сказав, что все «это дело» он прекратит, а книжную торговлю он откроет (на основании чрезвычайной охраны он закрыл книжную торговлю)… Но сделать этого не успел… На губернаторский престол вступил Муратов… А его медом не корми, а раскрывай такие дела… И он раздул «дело»… Жандармский полковник Боресков сочинил «дознание», которое потом следователь признал «совершенно неверным»… Муратов на основе этого документа снова устранил меня от головенства, предав суду по 129 ст. Оказывается, он и Борескова натравил, а потом и следователю написал секретно – «во что бы ни стало привлечь Огаркова»… В устранении я находился с ноября по июль… И во второй раз я был лишен возможности принимать участие в выборах во II Государственную думу (устранение меня отчасти имело в виду и это обстоятельство). Городская дума опять отнеслась ко мне сочувственно, оставила мне оклад жалования, выразив сожаление и пожелание снова и скорее увидеть меня в должности городского головы…
10.03. (06.04.) 1900 г.
Необходимо устроить для города:
1. Колодцы (простые и абиссинские) в разных пунктах города (исполнено).
2. Провести мостовую по Елецкой улице (исполнено).
3. Организовать продажу дров для бедных жителей города (исполнено).
4. Организовать посадку в лесу, осушение болота и пр. (организовано).
5. Организовать воскресную школу (получено разрешение, и с лета открыть).
6. Устроить ночлежный дом.
7. Устроить бойню (строится).
8. Возбудить в думе вопрос о передаче торгового документа для уездной торговли в земство.
9. Обустройство на средства города и земства Министерских 2-х классных школ.
10. О расширении программы городского 4-х классного училища и о допущении окончания в Реальное училище (исполнено).
11. Обратиться в Вятку в губернскую земскую Управу в «мастерскую учебных пособий» за приобретением пособий («Р.В.» №309 1899 г.).
12. Обратиться в Императорское Российское общество садоводства. В комиссию для разработки праздников древонасаждения (председатель доктор Марцынкевич) (Северный Курьер №146 1900 г.).
13. Устроить площадку для детских игр в саду (исполнено).
14. Выспросить у города добавочную помощь для библиотеки (исполнено).
15. Устроить торговые ряды против собора (устроено).
16. Открыть V Кл. прогимназии (открыто).
17. Открыть VI Кл. прогимназии (открыто).
18. Открыть VII Кл. прогимназии и преобразовать в гимназию (возбужден вопрос в думе).
19. Организовать дело медицинской помощи, чтобы оно было всем доступно и бесплатно (имеется думский врач и амбулатория), устроить со временем больницу.
20. Устроить музей наглядных пособий (устроен). Организовать при музее библиотеку учебников и книг.
21. Застраховать имущество библиотеки, музея, торговли книгами.
22. Организовать при «Детском Доме» (устроен в мою службу) дом для престарелых.
23. Устроить среднее учебное заведение для мальчиков (17.01. 1910 г. устроено).
24. Прекратить выдачу пособий (в 500 руб.) Покровскому кресту.
25. Перевести женское училище в клуб, а лечебницу в дом женского училища.
26. Устроить больницу.
27. Организовать книжную торговлю на базаре.
28. Открыть реальное училище.
Что сделано мною за мою службу городским головою к 9.03. 1913 г. (за 14 лет моей службы городу):
1. Замощены впервые некоторые улицы города (Большая, часть Земской, Елецкая и часть Базарной).
2. Устроена бойня и организован ветеринарный надзор (городская ветеринарная организация) и амбулатория.
3. Организована городская медицинская помощь (во главе с думским врачом).
4. Преобразован IV класс женской прогимназии в VIII класс гимназии, с 7-ю параллельными классами.
5. Открыто 3-е начальное училище.
6. Выстроен школьный дом на Никольской площади.
7. Введено всеобщее начальное обучение.
8. Открыто мужское реальное училище.
9. Выстроено здание для реального училища.
10. Организована правильная посадка леса (сначала 50 дес. в год, а теперь 80 дес.).
11. Расширено помещение библиотеки и увеличено пособие ей.
12. Построен и организован детский приют под названием «Детский Дом» и бесплатная столовая.
13. Расширено помещение Сукочева-Иванова богадельни.
14. Приобретены у А.Г. Сукочева сальня (салотопня, воскобойня, овцебойня и пр.).
15. Расширено здание женской гимназии.
16. Устроено керосинокалильное освещение по городу.
17. Устроена водокачка (с паровым двигателем).
18. Устроено 6 абиссинских колодцев.
19. Устроен музей школьных пособий и книжная торговля.
20. Устроены торговые ряды против Собора.
ГОРЕ
28 февраля 1914 г.
Давно я не писал в свой дневник… А писать надо было, хотел, но было страшно приступить… Я пережил такое тяжелое, такое страшное горе! И вот, сколько раз решался писать, но не мог… Каждый день все откладывал до другого дня… Наступал другой день и опять жуть нападала на меня!... Под утро 25 сентября 1913 г. умер мой дорогой мальчик, мой Вениамин, Юрок!... Смерть так быстро захватила его в свои когти, что не дала нам и опомниться… Вечером 19-го он заболел скарлатиною, а в 5 часов утра 25 он был уже мертвым. И вот сейчас опять я вспоминаю весь ужас этих последних минут моего дорогого мальчика.
Я был в Киеве на съезде городских деятелей, когда заболел Юрочка. И приехал только 22-го, ничего не зная о болезни моего милого мальчика… На станции меня поразила записка Лизы о болезни, и мне стало жутко, но и мысли не приходило, что Юрочке осталось жить 3 дня… Я так верил в то, что за всю любовь, ласку и заботу к нашим детям, все они у нас выживут… Поправиться и Юрочка… Правда придется ему поболеть, придется нам быть оторванными друг от друга некоторое время, но все это пройдет… А чтобы Юрочка умер – этого я уж никак не мог представить себе…
Все опасения эти мне казались напрасными, преувеличенными… И поэтому я спокойно смотрел на болезнь Юрочки… Когда я его увидел, он был еще в сознании и даже шутил. Он увидел меня в белом халате с покрытой белым платком головой, шутя, сказал: «вот колбасник и его супруга»… Текущие дела и боязнь перенести заразу на остальных детей не позволяли мне долго и часто бывать у Юры, и теперь я об этом страшно жалею и тоскую…
Положение еще осложнялось тем, что серьезно болен был дядя Саша (Александр Григорьевич Сукочев)…Относительно того не было сомнений в скорой смерти и поэтому мысли о нем, как умирающем, также заполняли голову. 23-го я пошел к нему вечером и нашел его в ужасном положении, что, не колеблясь, мог сказать, что скоро его не станет… О Юрочке я этого не думал, тем более, что и доктор все время говорил, что ничего угрожающего нет… И вот в ночь с 23 на 24 умирает Александр Григорьевич, а с этой же ночи начинается агония у Юрочки и утром 25 его также не стало…
Нет, не могу дальше писать…
5 марта 1914 г.
В 1-2 часов ночи под 24 меня будят и сообщают, что Александр Григорьевич умер. Я еду туда и вижу милого дядю Сашу уже лежащим на столе… Но нет у меня того тяжелого, щемящего чувства по отношению к нему, которое я ожидал… Дорогой Сашенька, добрый, милый, он меня простит, ибо он поймет, что меня обуревали другие чувства – у меня умер сын, существо более близкое и дорогое…
Когда я приехал домой, недолго спустя времени, меня позвала Лиза… И я увидел Юрочку в страшно тяжелом виде… Он галлюцинировал… Его милые глазки были страшно растеряны и смотрели куда-то поверх окружающих лиц и предметов…Он хрипло, задыхаясь, громко и часто говорил, говорил без конца. Говорил о Принце (любимом коте), о Джое (любимой собаке), о каком-то представлении, о Шурке… Галлюцинации его преследовали весь день… Я молил, просил доктора сказать есть ли опасность и он мне клялся, что ничего опасного не видит. Как прошел этот день я не помню… Это было что-то страшное, кошмарное… Все, не могу!...
ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ.
15 марта 1919 г.
В 1913 году прекратил я свой дневник… Смерть моего дорогого мальчика, Юрочки, так сильно на меня подействовала, что я не мог взяться за дневник… Прошло 6 лет… Много за это время воды утекло… Многое переменилось… Жизнь моя до 13-го года текла спокойно, радостно… Все как будто улыбалось мне… Я был счастливый отец. Семья большая, дети хорошие, кругом любовь и уважение… На горизонте ни одной тучки… Со смертью Юрочки жизнь как будто надломилась… Эта смерть была первым большим горем в нашей жизни… А за ней последовали и другие несчастья… Правда, судьба как будто сжалилась надо мной и послала мне маленькую радость…
В 1914 году исполнилось 15 лет моей службе городу, и мои друзья устроили мне маленький праздник… Человек 30-40 интеллигентов (доктора, учителя, учительницы, представители учащейся молодежи) собрались в здании женской гимназии. Устроили скромную пирушку… Говорились речи, читали адреса. Местная поэтесса прочла свои стихи. Поднесли скромный подарок: рамка-полка с фотографиями школ, построенных мною… Городская дума постановила представить меня к награде за мою полезную службу… Рана, нанесенная судьбой, не заживала и мы (я и жена) на этом дорогом для нас празднике плакали… Это было последняя радость, потом начались одни горести. И эти
горести, должно быть, сведут в могилу. Началась вторая половина 1914 года.
Разразилась война… Как-то не верилось в то, что война эта будет. Враг (Германия), казался очень опасным, сильным, лучше вооруженным и не нам бы бороться с ним… Когда отправлялись первые эшелоны запасных, мы, провожая их, говорили им, вполне искренно (мы сами глубоко верили в то, что говорили): «До скорого свидания! Не доедите до границы, как вас обратно повернут… Войны не будет». И они, прощаясь, вряд ли этому не хотели верить… Так чудовищна казалась эта война! Но наши надежды не оправдались!... Война разгоралась… Людей всё брали и брали… Дошла очередь и до меня… Но я был освобожден, как больной (отсутствие почки и рубец)… А близких, знакомых и родных многих уже взяли… Некоторые уже погибли на фронте (студент-медик Е.И. Сафонов. После смерти, за свой геройский поступок, был награжден Георгиевским крестом)… Настроение у всех нас было приподнятое… Все стремились чем-либо помочь Родине… Пошли сборы пожертвований, организовываются комитеты помощи воинам и их семьям… Я стоял во главе такого комитета. Прежде всего, мы стали оказывать денежную помощь семьям мобилизованных, а наряду с этим стали устраивать и лазарет. Средств на это было у нас достаточно. Ассигновал Фонд страхового общества, отдельные лица, кружки, группы лиц (извозчики, еврейская община, учительский персонал, учащиеся и прочие). Вносили исправно свои взносы. Оборудовали за свой счет кровати для раненых, несли белье и прочее… Словом, воодушевление было большое и работать хотелось во всю. Я и жена принимали очень горячее участие в деле помощи воинам, их семьям…
16 марта 1919 г.
Продолжаю… У нас был организован лазарет. Сначала на 25 коек, а потом расширен до 40 и 60. Первая встреча с ранеными была очень трогательна… Горожане приносили им съестное и сладкое… Для солдат устраивали вечера, елку… Уходившие от нас солдаты с грустью расставались с нами и связь не прерывалась долго. Письма получались и с родины (отпущенных, на срок домой или вовсе в отставку), и с фронта (часть выздоравливающих обратно посылались на фронт через команды выздоравливающих). В этих письмах писалось много горячей благодарности нам, вспоминалось с теплом проведенное время в лазаретах наших (у нас вначале было 2 лазарета, а потом их соединили в один).
Вспоминаю организацию фургонных сборов на подарки в армию… Сколько было собрано вещей, денег!... Трогательны были подарки. Из бедной лачуги – коробок спичек или кусок сахара… Много дарили дети, школьники. Подарки, посылавшиеся в армию, составлялись из чая, сахара, табака, папирос, писчей бумаги, конвертов, карандашей и прочее… Посылались подарки и через союзы, земский и городской. Более всего было трогательно получать письма с сообщениями о получении подарков… У меня набралось громадная масса этих писем… Много писем было искренних, сердечных, наивных… Ни одного насмешливого или оскорбительного… Вскоре организовали мы бюро по отправке посылок военнопленным… от желавших хоть чем-нибудь помочь горю… Больше всего работы пало на долю моей жены… Помимо отправления самими родственниками посылок, начали мы организовывать отправку посылок землякам, не получавших посылок ни от кого из родных. Такие посылки нами отправлялись через наше бюро, а потом мы вошли в соглашение с московской организацией, которая имела связь с заграничными организациями. Эти посылки вызывали ответные письма наших пленных… Сколько благодарности было в них, что не забывают их на чужбине…
21 марта 1919 г.
С войной в нашем городе была связана постройка бараков и прибытие войск, сыгравших в дни революции крупную роль в нашем городе. Я долго отказывался от возлагавшихся на меня поручений по постройке, но, в конце концов, был вынужден принять на себя этот труд. Постройка вышла удачной, и я даже получил благодарность и представлен был к награде, но революция помешала осуществлению предполагавшегося…
К нам назначен был полк 212-й запасный. Мы устроили ему скромную встречу (продукты уже начали исчезать с рынка). Солдаты имели вид угнетенных, забитых… Офицеры – грубых солдафонов. Вскоре, по прибытии полка, произошел печальный факт – один солдат повесился. Причина точно не известна. Официальная причина – нервное расстройство. Но в народе говорили, что он не выдержал иного гнета – издевательств над собой, которые пришлось ему перенести… Далее был случай такой: солдаты, по приказу своих начальников выбирали песок из ям. Не было принято никаких предупредительных мер, чтобы ямы эти не обсыпались и вот солдаты были засыпаны… Кажется, смертных случаев было мало (один), но искалеченные были… Это событие произвело сильное впечатление на жителей города… Возмущало и отношение начальников к солдатам на учениях. Рукоприкладство, ругань были постоянными спутниками учителей… А солдаты были бессловесной скотиной, все выносившей… Из офицеров, в хорошем смысле, выделялся один прапорщик, Моисеев (присяжный поверенный), сыгравший в дни революции крупную роль в местном полку… Я познакомился с ним еще до революции. Производил он очень хорошее впечатление: гуманный, интеллигентный, культурный человек, с широкими порывами. Он тогда интересовался А.И. Шингаревым, желая с ним познакомиться, чтобы передать ему, как члену Государственной думы, факты злоупотреблений в военном ведомстве…
Из событий дореволюционного периода вспоминаю вечер, устроенный в лазарете командиром полка. Участвовали, оркестр, хор, отдельные гастролеры – солдаты. Причем вышел инцидент. Один солдат (бывший клоун какого-то цирка) устроил комический выход. Комизм был грубый, топорный. Раненые были в восторге, но присутствовавшему командиру сцена не понравилась. И он в середине действия крикнул клоуну прекратить представление… Как мы ни просили командира, как ни указывали, что раненым это очень нравится, командир был упорен. Ему, видите ли, неловко было перед дамами, что представляется такая глупая буффонада… Делать было нечего, и клоун-солдат огорченный ушел со сцены, не докончив представления… Раненые были огорчены, мы так же, а артист чувствовал себя оскорбленным и оскандаленным перед всеми… Как мы ни старались его утешить, огорчению его не было конца…
Хор и оркестр полка устроил ряд вечеров в местном реальном училище с благотворительной целью. И вечера эти в художественном отношении были довольно интересные. Участвовали офицеры (бывшее актеры), солдаты (бывшие хоровые певчие, регенты, скрипачи-музыканты и прочие)… Очень красиво у них выходило пение с инсценировкой… Особенно сильное впечатление производила песня «Спите орлы боевые»…
10 апреля 1919 г.
Атмосфера политическая сгущалась все ближе и ближе… Правительственный гнет усиливался, но и оппозиционное настроение росло… Спайка с армией усиливалась. Особенно большую роль, по-моему, сыграли прапорщики и рядовые интеллигенты… Они будили мысль, поднимали сознание человеческого достоинства… А еще большую роль агитационную сыграли голод и разруха… У нас, в провинции, оппозиционное настроение так же нарастало, благодаря слухам об измене, о подозрительной роли царицы, Александры Федоровны… Значительную роль в оппозиционном объединении сыграли союзы, городской и земский…
Никогда не изгладится из памяти один из этих съездов союза городов. На котором принимали участие члены Государственной думы, представители партийных организаций. Впервые я слышал Керенского, Родичева, Чайковского, членов Думы с.-д. фракции и прочих… Заседания были бурные, страстные. Особенно сильное впечатление производили речи Керенского… Я понимаю, что в дни революции Керенский являлся кумиром массы… Действительно, так сильно захватить толпу своей вдохновленной речью никто, кроме Керенского, народного трибуна, не мог… На этих заседаниях мне пришлось повидать и послушать всех тех общественных деятелей, которых в дни революции были вознесены ею на гребень, а потом сброшены в пропасть… Все-таки от всех этих съездов у меня осталось самое хорошее, бодрящее воспоминание. В ту глухую, тяжелую пору жизни, они, эти съезды, спаивали раздельные оппозиционные общественные силы, создавали нечто цельное, крепкое… Недаром власть ставила препоны, всячески тормозила открытие съездов. Помню, после одного такого съезда, приезжаю я домой, а у меня уже лежит бумажка от губернатора, с предписанием без ведома и разрешения губернатора не присутствовать на этих съездах. Помню еще случай, когда мы собирались на съезд и отправились в назначенное помещение (не помню дом)/24/. И увидели такую картину: перед дверьми, наглухо закрытыми, стояла значительная толпа и прибывали все новые, и новые лица… Среди этой толпы было много членов Государственной думы, крупных общественных деятелей, будущих министров Временного правительства… Полиция не пускала внутрь здания никого… А там внутри лица, успевшие каким-то путем проникнуть, открыли заседание за тем, что бы вынести протест против произведения насилия… Потом мы все условились собраться на нелегальное собрание в доме члена Государственной думы, А.И. Коновалова… Роскошные апартаменты, избранное общество, горячие речи… Никогда не изгладится это из моей памяти… Было дорого и приятно, что и ты не даром живешь, что и ты являешься одним из армии строителей новой свободной России…
Да, так это казалось тогда… Ах, если бы знать наперед в какую форму выльется это строительство, пожалуй, не было бы такого жара и энтузиазма, который являлся тогда!... Впрочем, нет, если бы жизнь России строилась так, как намечалось тогда (а мы верили, что она будет строиться именно так), то энтузиазм оставался бы тот же…
Очевидно, России надо было перенести серьезную болезнь. И вот она, моя родная, моя близкая болеет… И пока еще не явились настоящие врачи, которые исцелили бы ее… Оппозиционные настроения все нарастали и нарастали… Слухи об измене, о грабежах все росли и росли. История с изменой Мясоедова всколыхнула всех… Царица Александра Федоровна являлась злым демоном во всех легендах об измене. Непопулярность ее росла… Николай рисовался безвольным, бесхарактерным, пьяным человеком, не способным на широкий государственный размах… «Народным героем» рисовался Великий князь Николай Николаевич… Все думы, все чаяния направлялись к Государственной думе. От нее ждали «чего-то»… Всех раздражало нехорошее отношение царя к Думе…
03 мая 1919 г.
Настали февральские дни 1917 года… Газеты выходили с большими белыми полосами… Иногда задерживались номера. Государственная дума по инициативе Милюкова стремилась создать блок… Правительство этому препятствовало… Как громом поразило убийство Распутина…
А между тем недостаток продовольствия все увеличивался… Хвосты удлинялись… Недовольство росло. Газеты давали какие-то неясные, но в тоже время тревожные вести. Государственная дума и отдельные ее члены начали вырисовываться все резче, рельефней… У нас в провинции было тихо. Мы жили больше слухами, сплетнями… Но вот в столицах что-то свершилось. Газеты не выходят, а слухи растут. Все более и более говорят о каком-то «временном правлении» У нас в городе расклеено губернаторское объявление о том, «чтобы население находилось в спокойствии и ждало распоряжений верховной власти»… А приезжие офицеры из Москвы рассказывают, что там и в Питере старая власть уже свергнута, всюду красные флаги, арестовывается полиция, крупные административные чины, министры и прочее… Мы в неведении… Телеграмма по железной дороге от первого комиссара Бубликова, была первой ласточкой.
Вот и газеты… В Питере и Москве революция. Министры арестованы. Вся власть перешла к Государственной думе. Царь отказался от престола… Меня все это ошеломило и появилось какое-то чувство тревоги за будущее… Не знаю, предчувствие ли тяжелого будущего или те утраты юношеских сил и верований, но чувства радости у меня первое время не было. А было одно чувство какого-то жуткого предчувствия… Положим, я никогда не был оптимистом. В 1905 году, когда казалось «счастье было так возможно», я и тогда сомневался… Хотя все-таки тогда чувства были как-то свежее… Прошедшие 12 лет реакции наложили свой отпечаток на настроение… Вскоре, по получении точных известий о событиях, мы организовали собрание из граждан города. Народу собралось в здании Городской управы много… Собрание носило характер приподнятый, радостный… Но уже и тогда появились какая-то черточка неясная, неуловимая, чего-то оппозиционного… Особенно выделялся в речах своих Малахов (земский техник). С виду нечто гнусное, а в нравственном отношении, пожалуй, еще более гнуснее… Этот Малахов в дальнейшем сыграл печальную роль с строительстве новой жизни России… На этом первом учредительном собрании было постановлено создать исполнительный комитет, который бы ведал всею административной частью города. Я был председателем этого комитета…
15 декабря 1927 г.
Хотелось бы возобновить свои записи, да не знаю, удастся ли… Что-то я разучился записывать… А надо бы… Ведь жить-то остается немного… Хотя и то… А кому эти записи нужны?... Все равно все это пойдет в корзину… Да, и не думал я, чтобы так кончилась моя жизнь! Так много было надежд, планов! Как начинается ночь, так и идут в голову всякие мысли, воспоминания… И что удивительнее всего, это что ясно встают воспоминания самого раннего детства, юношеские годы… Так ярко, так четко, как будто это вчера было!... Говорят, что в старости это всегда так бывает… Буду записывать (хотя бы сам для себя). Не систематично, а по мере появления этих картин прошлого из детских воспоминаний.
Помню наш дом старый, небольшой. Помню темную столовую, спальню. Большая деревянная кровать, с большой периной, с простыми деревянными ширмами. На ней спали, отец с матерью… Здесь же стоял деревянный желтый сундук, на котором спал я. А когда приезжал дедушка, и он спал здесь со мной… Начинались длинные разговоры… Дедушка рассказывал мне сказки, а я ему. Помню его рассказ о том, как барин с кучером ехали лесом. Барин был сердитый (дело было еще во времена крепостного права)… И постоянно ругал и бил кучера… И вот, разозленный кучер, в самом глухом месте леса, велел слезать барину и выпорол его кнутом… После этого барин стал с ним очень мягок…Дедушка был очень деликатен со всеми, особенно ласков с нами, мальчиками…
Еще мы, маленькие, любили «печурку». Маленькая комнатка без двери, а с большим окном, через которое можно было влезать в «печурку». Внутри комнаты была «лежанка» от печи. И вот в этом полутемном помещении мы, дети, и любили находиться в свободное от занятий время… Темно, таинственно-жутко, но и тепло (особенно приятно это было в холодные дни)… Вот туда бывало, заберемся мы (я, сестры Наташа и Маруся и Клавдия)… Сестра Маруся была у нас очень талантливая и всегда сама сочиняла свои сказки… И как мы их любили!... Забирался в «печурку» и дедушка, после своих длинных поездок по делам (тогда железных дорог было мало, и он ездил на лошадях). Особенно нам нравилась ее сказка (или скорее рассказ) о девочке, которую очень любили папа с мамой. И делали ей очень интересные подарки: игрушечный дом, но такой где она могла входить, игрушечную железную дорогу, но вагончики такие, что в них могла она сама помещаться, куклы ее были заводные, сами передвигались, говорили и т.д…. Фантазия у сестры была богатая и рассказ ее продолжался несколько вечеров, обогащаясь все новыми и новыми фантастическими прибавлениями… У нас была гувернантка Анна Васильевна, истеричка, почему-то очень не любившая меня… Много горя я перенес от нее… К счастью, она не долго служила у нас…
20 февраля 1928 г.
Чтобы не забыть запишу еще один факт из моей общественной деятельности. Девятого марта 1914 года исполнилось 15 лет моей работы в должности городского головы. Мои друзья и почитатели устроили вечер в здании женской гимназии. На котором и чествовали меня… Собралось человек 40, были: председатель земской управы, члены городской управы, учителя городского училища, начальных училищ, гимназии, ремесленного училища, доктора, служащие земской городской управы, некоторые гласные городской думы, некоторые граждане… Не было, конечно, исправника и некоторых других моих противников.
Вечер открылся скромным ужином, за которым говорились речи, читались адреса, был поднесен подарок. Говорили: секретарь земской управы, М.Д. Русанов, некоторые священники, педагоги, председатель земской управы, члены городской управы и другие. Местная поэтесса О.И. Яхонтова прочла стихотворение:
9-го марта 1914 года
Посвящается Федору Васильевичу Огаркову.
Сегодня, в первый день весны,
Мы чтим день Вашего избрания,
В порыве искреннем души
Вам говорим слова признания:
Поклон Вам низкий до земли!
Отцом для города Вы были,
Заботы все о нем несли,
На благо лишь его творили.
Как солнце озарили Вы
Наш город светом мысли, знания,
Исходит все от «головы»
У нас благие начинания.
Природа щедрою рукою
Свои дары Вам расточила;
Вас не одною головой,
И сердцем чутким наделила.
Где только горе и нужда,
Где только слезы проливали,
Спешили первый Вы туда,
Страданья ближним облегчали,
Любили Вы свой край родной.
О, как тогда Вы ликовали,
Когда октябрьской весной
Лучи свободы нам сияли!...
Пятнадцать лет прошло с тех пор,
Как «головою» Вас избрали.
Звучит речей Вам нынче хор,
В честь Вашу пенятся бокалы!...
Ольга Яхонтова. (Прочитано на вечере в гимназии)
Ученики реального училища поднесли адрес, в котором благодарили меня за то, что по моей инициативе, при моем энергичном содействии создалось училище, давшее возможность и беднякам учиться, живя в родных семьях… Педагоги поднесли мне скромный подарок – полочку, сделанную в ремесленном училище. Под красное дерево, с выжженными инкрустациями и с четырьмя рамками, в которых были вставлены четыре фотографии школьных зданий, построенных по моей инициативе… При моем горячем и энергичном участии и руководстве (реальное училище, женская гимназия, ремесленное училище и школьный дом для двух начальных училищ)… Эта полочка всегда со мной… И сейчас висит перед письменным столом и каждый раз, при взгляде на нее, я вспоминаю дорогое прошлое… На торжестве я был вместе с женой… И эта трогательная и теплая встреча с местными общественными деятелями только омрачалась грустными воспоминаниями о понесенной нами утрате не задолго перед тем (25 сентября 1913 года умирает мой сын Юрочка)…
Вечер прошел очень симпатично и искренно… Я никогда его не забуду… В городской думе председателем земской управы Г.Н. Новосел, было внесено предложение в том, чтобы каким-нибудь способом отметить мою продолжительную энергичную работу на пользу города. И Дума постановила ходатайствовать о награждении меня орденом за мои заслуги обществу… Орден мною был получен много времени спустя после думского постановления года через два. Так как губернатор никак не хотел меня представлять к награде, как «неблагонадежного»…
В моей памяти возникают лица, сосланных в Усмань поляков за восстание. Милёвич, Зелинский, доктор, ксендз. Милевич бывал у нас. Он был франт, очень вылощенный, пел романсы. Зелинский был простым землемером и служил в городской управе. Жили и другие поляки, но тех не помню. Говорили про них, что они хорошо живут, что им присылают денег… Помню, что среди них много было картежников и азартных игроков. И всегда у них находились деньги, и большие (у доктора в письменном столе всегда груды золота). Особенно в памяти у меня ксендз. Высокий, широкоплечий, мрачно прогуливавшийся по городу. Он почему-то тогда возбуждал жалость, сочувствие… Но вот получает он откуда-то деньги и начинается пьянство…. Он тогда страшен был для нас, мальчишек… И так было страшно видеть ксендза в таком разнузданном страшном виде… Но вот проходит период запоя и опять его мрачная грустная фигура появляется на улицах… Когда у нас стоял полк Фанагорийский (после турецкой войны), у этого ксендза исповедовались солдаты-католики… Я помню, что эта исповедь происходила в здании городской управы. Ксендз мрачный, суровый сидел, а перед ним на коленях стояли солдаты исповедники…
Вспоминаю еще сосланных черкесов… Особенно одного – Аслана. Его приютил у себя один передовой гражданин Усмани, Семен Иванович Болтенков (из кружка другого усманского общественного деятеля Ивана Васильевича Федотова), в последствии городского головы г. Армавира… Блотенков относился очень хорошо к Аслану. Обучил его грамоте. Аслан всегда был прилично одет, в тужурку, крахмальную рубашку, был очень культурен. Недурно говорил по-русски. И когда он задумал бежать, это была его заветная мечта, то Болтенков ему оказал содействие. И Аслану удалось убежать в Турцию… Другие черкесы были чернорабочие. Служили на кожевенном заводе. Работали у горожан поденно… Они сильно пили и совсем обрусели…
Вспоминаю двух пленных турецких офицеров (русско-турецкой войны 1877-1878 г.г.)… Они совершенно акклиматизировались: изрядно пили, бывали в церкви, завели знакомства с дамами…
Еще вспоминаю эшафот в Усмани и позорную колесницу. Все это хранилось в городской управе. И когда являлась нужда в этих вещах, плотники вывозили эшафот, сколачивали его и устанавливали на Соборной площади, на том месте, где ныне стоит ораторская трибуна. Эшафот был высокий, и к нему вела лестница. Все это окрашено было в черный цвет. Посередине эшафота стоял один столб (или два, точно не помню). В моих детских воспоминаниях рисуется одна такая картина, как одного преступника, привезенного на позорной колеснице, привязывали к этому столбы (или, скорее, подтягивали вверх ремнями). Что-то читали, потом отвязывали и увозили в тюрьму… наказания кнутом не помню… Осталось у меня воспоминание, но думаю, что это навеяно рассказами матери. Когда наказывали на площади плетьми, в доме у нас все семейные в ужасе забивались в дальнюю комнату, чтобы не слышать крика избиваемого, но все-таки крики достигали их и там (наш дом стоял на этой площади). Позорную колесницу я помню хорошо, так как маленьким с другими мальчишками часто бегал на двор Управы (наш дом стоял рядом с городской управой) и играл там. Влезали на эту колесницу… Она была большая, неуклюжая, громоздкая, окрашена в черную краску. Было в ней два сиденья. Одно для преступника, а другое для возницы. Преступников привязывали спиною к кучеру и вешали на грудь доску. По бокам шли солдаты (тогда «инвалидные команды» были по городам) и барабанщик…
Помню первые наборы в солдаты. С каким ужасом шли тогда в солдаты… Страшен был крик «Лоб!» (какой годен)… Крестьянские матери и жены все приезжали с новобранцами. Все в траурных белых платках… Крики и стон раздавались около Управы. Зато когда раздавался крик «Не годен!», какая радость была вокруг!... Новобранец чисто выскакивал голый из приемной комнаты и бежал по холоду, часто и по снегу (дело было в ноябре), а за ним следом бежали жена или мать с костюмом… так ярко, так живо рисуется мне теперь эти картины далекого прошлого… Вся площадь устанавливалась подводами с приехавшими новобранцами и их семьями… Тут же делилась и радость и горе… Было и пьянство, часто и драки… Помню год, когда введена была всеобщая воинская повинность и как мы, дети, горько плакали, когда забрали нашего двоюродного брата (Степушку Огаркова) в солдаты… нам казалось, что он навеки погиб, что мы его больше уже не увидим… На сколько мне помнится, кончившие начальную школу, тогда служили 4½ года. И вот мы на такой дальний срок расставались с ним… Но все случилось не так страшно, как мы представляли себе… Мирно прослужил он в своем же городе. Дослужился до унтер-офицерского чина и вышел в отставку… Правда, устроилось такое благополучие для него благодаря хлопотам моего отца…
Еще вспоминаются две обитательницы нашего старого дома. В углу двора у нас была избушка, когда-то служившая баней. Вот в этой бане и приютили мои родители 3-х старушек: Анну Васильевну и Прасковью Сидоровну. Третей я даже не помню имени. Она вскоре умерла. Эти старушки были какие-то очень-очень отдаленные родственницы нам. Анна Васильевна была низенькая, в очках, тип старой барыни. А Прасковья Сидоровна была худая, высокая, тип из простонародья… Вся избушка была у них разукрашена образами, лубочными священными картинками, пучками разных сушеных лекарственных трав и носила вид кельи… Мы, дети, очень любили у них бывать. Рассматривать картинки, разные священные предметы, как пальмовую ветку из Иерусалима, разные камушки, ватки, рукавички из разных святых мест… Анна Васильевна любила читать большие священные книги… Прасковья Сидоровна больше занималась хозяйством. Анна Васильевна была «не от мира сего». Была какая-то рассеянная, за книгами забывала все… Никогда не забуду одного случая. У нас была корова злая, очень любившая брухаться. И вот один раз она бросилась на Анну Васильевну, а та, по вечной своей рассеянности, не поспешила от нее спастись. И вот корова («Коза» звали ее) подцепила Анну Васильевну на рога, но так, как рога у нее широко расходились, а Анна Васильевна была худенькая, щупленькая, то она и попала как раз между рог… Картина была смешная: Корова обозленная бегает по двору, мотает головой, а у нее на этой голове восседает Анна Васильевна в своих больших очках, с укутанной головой… Наконец, наша дворня поймала корову и освободила старушку… Скромная, тихая, незаметная жизнь их так же тихо угасала, как и шла все время… Хотя смерть Анны Васильевны (мне почему-то это запомнилось) совпала с рождеством и в какой-то веселый рождественский вечер она умерла… Мы были огорчены этим и вечер наш прошел уже не так радостно, как начался… Анна Васильевна оставила о себе память милой, доброй, жизнерадостной старушки. Она напоминала мне другую старушку – мою тетку, Анну Федоровну Ярцеву… О ней я как-то уже писал… После смерти обитательниц избушки последняя была снесена, а на ее месте построена настоящая баня, которую потом, много лет спустя, отец мой пожертвовал Комитету о бедных. Этот домик был перенесен на усадьбу «Детского Дома» (построенного по нашей, моей и маминой инициативе) рядом с ним. В нем первое время жили старухи, а потом его приспособили, как изолятор для больных детей «Детского Дома»… Мои родители были очень добрые люди. Сколько народа они приютили, обогрели, накормили и поставили на ноги на своем веку!... Алена Федоровна, Анна Васильевна, Прасковья Сидоровна, еще старушка (имени не помню), Анна Федоровна, Николай Федорович (брат и сестра моего отца)… Все эти люди нашли полный приют у нас и жили до конца жизни, а потом отец их похоронил.
Мать оказывала покровительство бедным родственникам, девочкам, давая возможность им учиться и кончить курс гимназии. Некоторые девочки жили у нас на полном иждивении, конечно, бесплатно, а некоторым они давали денежные и материальные пособия. В канун каждого большого праздника мать рассылала продукты (мясо, хлеб, чай, сахар, и прочее) многим бедным города (у нее был очень большой круг знакомых бедняков). Каждый день приходили к ней за помощью, и она никому не отказывала… А когда она вступила членом в местное Общество помощи бедным, поле деятельности ее расширилось. К ее средствам присоединились общественные средства, и оказание помощи значительно увеличилось. Стала помогать бедным невестам, бедным семьям (деньгами, продуктами, одеждой и прочим). Особенно же внимание обращала она на помощь детям… По нашей (моей и ее) инициативе устроен был «Детский Дом» и детская столовая. Она была деятельной работницей, но даже и когда потеряла зрение, она продолжала горячо и деятельно относиться к «Детскому Дому»… Она в 1892 году (голодный год) принимала горячее участие в устройстве столовых для нуждающихся… Да, 92-й год памятен мне хорошо!... Тогда широко развернулась работа помощи голодающим… Я получал пожертвования из Петербурга, Москвы и других мест… Комитеты грамотности (Московский и Петербургский), студенты, знакомые и , наконец, правительство дали мне возможность организовать около 30 столовых в соседних с г. Усманью селах (Песковатка, Студенки, Сторожевое, Хомутовка, Голодовка и Пашково, Помазово, городе Девица и других). Ежедневно кормилось до 3 000 человек (детей и стариков).
Оказывалась помощь для прокорма скотины. Помогали покупкой лошадей… В столовых мы часто читали… Один раз меня и сестру, Клавдию полиция поймала с поличным (читали «Чем люди живы», «Два старика» Л. Толстого). Так памятна эта картина… Сидят старики, старухи, дети, их матери и отцы и с умилением слушают эти прекрасные рассказы… Но вот вдали послышались колокольцы… Едет какое-то начальство… Все ближе и ближе… Становой… Тройка останавливается около столовой. Входят… "Что это вы делаете?... Читаете? А разрешение есть? Вы знаете, что без разрешения нельзя!"... Я принужден составить протокол… Составляется протокол, и я с сестрой привлекаюсь к суду земского начальника. Очень благодушный человек, Ансеров. Он судил нас и оправдал… Становой оправдывался, что его заставил ехать и составлять протокол исправник (тогда был Михневич), а сам бы он ни за что этого не сделал…
Всегда вспоминаю с чувством глубокой теплоты этот голодный год… Как было приятно работать, ездить по селам, знакомиться с народом, знакомиться с сельской интеллигенцией… Организовывать, расширять помощь… Все помощники (учителя, учительницы, священники, доктора, дети их и другие) с жаром, с глубокой любовью относились к делу, вполне бескорыстно… Был подъем как здесь, на местах, в глуши, так и там, в центрах… Чувствовалось, что все объединены одной идеей – помощи голодающему, желанием оказать ему помимо материальной и моральной поддержки, поднять его самосознание, открыть ему глаза на существующую неправду… Около нас очень широкую помощь развил мой зять, писатель А.И. Эртель (село Макарье, Орлово Воронежского уезда и весь этот район). Он также устраивал столовые, организовывал общественные работы, закупал лошадей, устраивал чтения. Построил образцовую начальную школу (в Макарьеве) и т.д. К нему наезжали интересные люди: был корреспондент американской газеты, были французы, писатели, студенты, студентки. Наезжал народ из Москвы… Жизнь шла бурно, кипуче… Вообще весь наш район (Воронежской и Тамбовской губернии) был покрыт столовыми и разными организациями помощи народу. Вскоре же поселился в этих же местах Константин Константинович Соколов. Очень хороший человек, создавший прекрасный, культурный уголок (школы, мастерские, амбулатории, театр и прочее). О Соколовых (К.К. и его жене) я уже вспоминал в своей работе: «Из давно минувшего» (история Усманской библиотеки). Это был удивительно веселый, жизнерадостный человек, прекрасный актер, замечательно хорошо читал, особенно Чехова… У себя в деревне они устроили настоящий театр, а труппу набрали главным образом из крестьян. Жена его Зинаида Сергеевна (сестра артиста Художественного театра, Станиславского), тоже очень хорошо играла. И организованная ими труппа удивительно хорошо старалась. Они играли и у нас, в Усмани, и, кажется в Воронеже.
____________________________________
1. 9 марта 1899 г. – Огарков Федор Васильевич впервые избран (18 мая. – утвержден) на должность Городского головы уездного города Усмань Тамбовской губернии.
2. Теперь так же обуржуазился и стал обыкновенный человек.
3. Я познакомился с двумя кадетами местного Кадетского корпуса и стал передавать им «литературу».
4. Сейчас же по приходе от директора домой, я послал к «деду» сообщение о случившемся, и предупредил о возможном обыске и прочее… «Дед» принял свои меры, но одна какая-то бумажонка где-то завалилась и была отнята жандармами.
5. Как ученику - реалисту, мне этого делать было нельзя, и я с товарищами решил устроить маскарад, переоделся во все штатское и явился к товарищу прокурора Кучеру так, назвавшись родственником "деда", и получил от него пропуск в тюрьму.
6. По поводу этого письма Александр III сказал: «Дура… Не ее бабьего ума это дело»…
7. Кружок, собиравшийся у И. В. Федотова – брат, А. Г. Сукочев, Дмитрий Иванович Константинов, А. И. Эртель, Семен Иванович Болтенков (Пятигорский городской голова).
8. Толковал больше конечно он – он убеждал меня учиться любить народ, студентов…
9. Вспоминаю спор с ним по поводу «офицерской чести», «чести мундира»… В Петербурге какой-то оборванец, встретив воинскую часть, подошел к офицеру и дал ему пощечину. Сделал это из хулиганства, так как с офицером не был знаком, и лично от него никаких оскорблений не получал. Офицер, не имея возможности и права вызвать на дуэль «оборванца» и тем снести оскорбление (не позволяла «офицерская честь), был вынужден покончить жизнь самоубийством… Меня это возмущало – загубить молодую жизнь из-за предрассудков, из-за случайного оскорбления какого-то полоумного… Фон дер Лауниц посмотрел на меня с презрением и сказал, что «Вы этого понять не можете, честь мундира – это великая вещь!»
10. Василий Васильевич Огарков - писатель, действительный статский советник.
11. Собрались мы на прощальную «Вечерь», так как ожидали, что на днях нас всех арестуют и, дай Бог, разошлют… Вот мы и собрались для прощания, для организации
связи, когда мы будем разбросаны по разным захолустьям, мы беседовали, мы были грустны, но в тоже время мы строили планы на будущее, надеясь, что настанет конец бесправия…
12. Александр Васильевич Огарков - врач, хирург, впоследствии руководитель Мытищинской лечебницы.
13. Особенно памятен мне банкет в Воронеже, на котором адвокат Корякин сказал блестящую речь… Впервые открыто было заявлено об ограничении самодержавия… Впервые раздалось требование конституции, свободы слова, сходок и прочее… Было и еще собрание в Воронеже, а после этого начались опять стеснения и запрещения собраний.
14. Такие же громады собраны были в 1917 году в дни революции.
15. Дочь Мария Васильевна (Эртель) Огаркова – жена писателя А.И. Эртеля.
16. Мне вспоминается такой же момент в глазах умирающего брата Паши… Агония у него началась, когда ему был, впрыснут доктором морфин. Глаза были закрыты, и только один момент он их открыл на мгновение, и умер…
17. Квартальный надзиратель (квартальный) — с 1782 года до середины XIX века должностное лицо городской полиции в Российской империи. Надзирал за порядком в определенном квартале.
18. В Петербурге ходит упорный слух, что наследник очень серьезно болеет «гемофилией» (кровоточивостью).
19. Теперь совершенно погибший человек, пьяница, растративший общественные суммы, судившийся и осужденный.
20. Когда царь ехал, в экипаж ему было брошено много подарков от крестьян (холстины, полотенца).
21. Между прочим, великий князь Сергей Александрович, убитый потом Каляевым.
22. Тимофеев в 1919-1920 г.г. был расстрелян большевиками.
23. Телеграмма была послана во время бывших беспорядков в Усмани – «забастовки». Исправник, подписавший так же телеграмму, был уволен немедленно, а мне увольнение было отсрочено…
24. Кажется дом Шереметьева.
Материал предоставлен -
Карчевским Д. А. 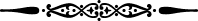 |
|
|

