|
|
 |
Огарков Ф. В. - Материалы дневника.
ДЕТСТВО
От моего детства у меня остались обрывки воспоминаний… Помню я себя маленьким-маленьким, когда мы еще жили во флигельке… Тесновато было. Мама у меня была религиозный человек. Строго соблюдала посты. И нас, детей, заставляла соблюдать… и с какой грустью мы всегда встречали эти посты. Особенно великий… После масленичного веселья и объедения переходить на строгий пост, на заунывный звон колоколов было тяжело и грустно… Как в калейдоскопе проносится передо мной лица, окружавшие нас тогда…
Помню нашего домашнего «доктора», военного фельдшера Алексея Фомича… Во все трудные минуты жизни он приходил к нам на помощь… Лекарства были больше домашние… Если кашель был сильный, брали толстую сахарную бумагу, накалывали ее булавками и смазывали салом сальных свечей (в то время горели сальные свечи). И прикладывали к груди… Если болело горло, суконку натирали таким же салом и прикладывали к шее… Еще давали выпивать такое же сало, накапанное в чайную ложку с водой… Много домашних средств заготавливали сами: «березку» (почки березы, настоянные на спирте), ландышевые капли, сиреневое масло, липовый цвет и т.д. и т.д. Почему-то сейчас Алексей Фомич выплыл первый в моей памяти… Как сейчас помню этого с солдатской выправкой человека с приплюснутым носом, довольно благодушный, простой…
Более частым посетителем нашего дома был священник отец Василий Никольский, сосед наш, наш духовник. Мои детские воспоминания о нем были самые приятные. Мы, дети, очень любили его за ласковое отношение к нам. Никогда он не приходил к нам с пустыми руками: или конфеты, или божественные книжки, или маленькие образки дарил нам. Любил с нами беседовать, шутить… Эта личность играла большую роль в моей жизни. В зрелом возрасте я был в довольно холодных с ним отношениях. Но потом, под конец его жизни наши отношения сгладились… Вообще это был интересный человек. Умный, энергичный, самолюбивый. Он сыграл крупную роль в нашем городе. Из простых семинаристов (бурсак) он, прослужив 60 лет в сане священника, достиг высоких степеней и большого влияния на общество… Не знаю, благодаря ли тому, что вся моя жизнь, с раннего детства, протекала под его влиянием. Он и крестил меня, моих детей, моих сестер и братьев, и венчал, и хоронил близких, родных. Только я как-то органически не мог вступать с ним в споры, не мог не поцеловать его руки, словом не мог не оказывать ему дань почета и уважения… Умер он не задолго перед революцией… Это был монолит монархизма, православия… Эти идеи как-то вросли в него… Интересно было бы посмотреть, как он отнесся бы к событиям 17-18 годов русской революции… Мне думается он не пережил бы их и от ужаса умер… В дальнейших своих воспоминаниях я буду возвращаться к нему.
Мелькает в моем воспоминании фигура дальнего родственника Ивана Александровича Ивашова. Старый, небогатый помещик. Ласковый, добродушный, я его очень любил. В память врезался один случай. Иван Александрович уезжал от нас. Мне не хотелось его отпускать… В прихожей, около выходной двери стояла лавка, а на этой лавке стояло ведро с водой. Я взял веревочку и привязал ее к ручке двери и ручке ведра, и был глубоко уверен, что теперь ни за что не отпущу Ивана Александровича!... Нужно было кому-то прийти с улицы. Дернул за дверь, дверь отворилась и потянула за собой ведро с водой… Получилась громадная лужа… Отец и мать были у нас ласковые, и особенно сильно мне не досталось, но пробирка все-таки была.
Вспоминаю еще сумасшедшего Алексея Андреевича, считавшегося юродивым. Он всегда ходил в рваном костюме, опутанный кучей веревок. На голове носил красный колпак (наволочку от подушки)… Любимые его слова были «контро-ментро-колисниро»… Будто бы эти слова и помахивание волшебным красным колпаком совершали чудеса (так он говорил, и были простецы, верившие ему)… Он был грязный, неприятный. Особенно неприятен был за обедом. Сморкался при содействии пальцев, и этими же пальцами лез в блюдо за едой (вилок не признавал)… Он страшно боялся, когда точили ножи… Это вызывало в нем панический страх, и он бежал от того места, где производили точку ножей… Мы, ребятишки (а иногда и взрослые) пользовались его слабостью и часто дразнили его… Многие, как я говорил, к нему относились, как юродивому с уважением. Бабушка моя, игуменья Воронежского монастыря, была его поклонницей. Благодетели купили ему телегу и лошадь. И он занимался торговлей. Ездил в телеге и продавал, например, 1фунт чая, который был уложен у него чуть ли не в 10 мешках. Когда останавливался на ночевку, то так опутывал лошадь цепями (чтобы ее не украли), что бедное животное чуть не падало под их тяжестью. Иногда он злился и ругался, но дальше злость его не шла. Буйных выступлений я не помню…
Еще мелькает в памяти какая-то туманная личность «хомутовский царь»… Кто он был, не помню… Но только всегда при его появлении на улице, мы бежали и прятались… Чем наводил он на нас страх не помню, но воспоминание о нем осталось именно как о чем-то страшном, жутком. Кажется, тоже был какой-то сумасшедший, возомнивший себя царем.
Помню наш флигель… Полутемную комнату, столовую и спальню родителей. В этой комнате все мы собирались и большие, и малые… Здесь мы пили чай, обедали. Принимали гостей менее важных, родственников и пр. зал был для более почетных гостей или когда были званые вечера…
Об отце и матери в детских воспоминаниях сохранилось мало… Бедны эти воспоминания. Мама была очень религиозна и старалась и нам это чувство внушить отчасти убеждением, отчасти принуждением: мы по субботам и под большие праздники обязаны были ходить к всенощной. Соблюдать посты, молиться дома и пр…. Папа был равнодушнее к вопросам религии, но обрядность он всю исполнял. Вообще, нам, детям, жилось очень хорошо. Наши родители были мягкого характера, добрые, ласковые… Физическое наказание у нас совершенно отсутствовало… Применялись приемы убеждения, упреков, вообще нравственного воздействия. Воспитывалось в нас чувство любви к ближним, жалость к бедным, страждущим, уважения к старшим, деликатного отношения ко всем…
В нашем городе из нашего сословия нас, детей, первых отдали в среднее учебное заведение… Я как сейчас помню, как я с папой поехал в Воронеж провожать сестер, поступающих там, в гимназию, и помещенных в пансион Нездежных… Суровые хозяева (старуха мать), казенный вид пансиона, произвели на нас сильное впечатление… Особенно бросились мне в глаза громадные чашки с блюдцами, из которых поили девочек чаем… как же я плакал, прощаясь с сестрами (езды по железной дороге до Воронежа от нашего города было 2 часа)… мне казалось, что расстаюсь с ними навсегда… До поступления в Воронеж сестры учились в местной прогимназии, а дома у нас была гувернантка. Злое, раздражительное существо, особенно не любившее меня… Много слез пролил я от нее в детстве!... Придиралась она ко всяким пустякам. Прямо удивительно такое отношение ко мне – мальчик я был тихий и скромный… Откуда явилась эта ненависть, прямо затрудняюсь объяснить… Отец и мать, в конце концов, предложили ей оставить место у нас. С большим облегчением вздохнул я, когда увидел, что гувернантка Анна Васильевна собрала свои скромные пожитки и удалилась от нас.
К воспоминаниям этого же периода относится встречи с монашкой - «толковашкой» (какая-то очень-очень дальняя родственница) из ближайшего Софийского монастыря… грузное, толстое, расплывчатое существо, быстро-быстро говорящее (отчего и «толковашка» прозвание). Она часто ночевала у нас, и шли вечные разговоры. Нас, детей, она очень любила, особенно меня. Ей нравилось чтение мною сказки «О Марке богатом и Василио бесчастном»… Содержание она плохо понимала, а каждый раз плакала и плакала от интонации моего голоса… Каждый ее приход я обязан был ей читать об этом «Марке богатом». В конце чтения обыкновенно засыпала.
Еще приходит в моем воспоминании другая старушка – «бабушка Алена Федоровна», безносая (ходила на костылях)… Удивительное существо. Сморщенное как печеное яблоко лицо, суровое по отношению к врагам (мифическим, конечно) нашего дома. Ее постоянно дразнили тем, что мы разоряемся, что отец проиграл в карты шубу и прочее… И вот она набрасывается на отца, пробирает его, охает, плачет… Жила у нас она из жалости (считала себя нашей родственницей, но, в сущности, ею не была. Или если была, то очень отдаленной)… Приказчики, жившие с ней в одном помещении, постоянно дразнили ее сообщением о всяких небылицах, о членах нашей семьи (и все на почве разорения) и она всегда горячо реагировала на эти сообщения… Ее богатство состояло из небольшого количества денег (рублей 10-15), которые она получала от нас двугривенными, пятиалтынными в виде подарков… И этот капитал она охраняла усиленно в разных тряпочках, мотках и на этой почве охраны разыгрывались комические факты. Приказчики, а иногда и мы, мальчишки, делали вид, что собираемся похитить ее богатство… Происходили бурные сцены. В дело пускались костыли… Раньше мои старшие братья, чтобы устроить потеху, упрашивали ее быть подсудимой, за что давали ей двугривенный и разыгрывали сцену суда (в то время только что введен был суд присяжных). Один брат был прокурором, другой защитником, а мы, мальчишки, присяжными заседателями… В начале обыкновенно заседание шло мирно (придумывали какое-нибудь преступление), но потом бабушка входила в роль, обижалась, горячилась, оскорбляла суд» и начиналось новое «дело»… часто доходило до свалки. Бабушка бросалась на «судей» с веретеном и возникало опять новое «дело» – покушение на судей… Но потом у нее кончалось благодушие – давали бабушке новый двугривенный, и все кончалось миром, а она снова позволяла себя «судить»… И так без конца…
Последние дни ее жизни были тяжелы. Она не могла слезть с печурки. За ней ухаживала кухарка, моя мать, мы, дети… Умерла она удивительно покойно, в ясном сознании. Все время говорила о смерти. Смотрела на нее как на неизбежность, а иногда даже как на сон, на покой… Удивительно хорошо умирала!...
Еще в воспоминаниях тетя Анна Федоровна (сестра отца), существо, много страдавшее в своей жизни, но никогда не унывающее, с глубокой верой в лучшее будущее… Отличительная черта ее характера – это любовь ко всем своим родственникам и удивительная гордость за них. Все ее родственники (и мы, конечно в том числе) одно совершенство, сокровище в самих талантах ума, красоты и прочее… Но про своих родственников ни разу она не сказала плохо. Все это делалось бескорыстно, из-за одной горячей любви ко всем… Тетя была «старая барыня», воспитывалась среди помещиков старого типа. Ее выдали за небогатого (сама она была дочь купца), оказавшегося кутилой, развратником, зверем, помещика… Состояние они прожили быстро… Жить приходилось тяжело, при помощи и содействии родственников. Дети вышли неудачники. Пробовали их учить, толку никакого не вышло. Стали пить, опускаться постепенно… Самый младший сын совершенно омужичился, стал простым работником. Старшие занимали должности волостных писарей, полицейских и прочее… Но, благодаря своему поведению, долго не удержались на местах, а катились по наклонной плоскости все ниже и ниже… Один сын у ней помешался, и idée fixe явилась – водка… Она – яд, пить ее грех, в ней сидит дьявол… До сумасшествия он сильно пил… В обычной беседе он был обыкновенным человеком, но как только разговор заходил о водке или о вине, он начинал волноваться и заговариваться. Иногда он буйствовал, но, в общем, он был тихий… Кончил жизнь в доме умалишенных… И вот не смотря на массу горя, на массу страданий, тетя не теряла бодрости духа… Вечно была оживленная. Любила играть на рояле, петь старинные романсы… Всегда особенно трогательные были эти концерты… Милая старушка в чепце садилась за рояль и вот комнату наполняли звуки чего-то далекого-далекого… А дребезжащий старческий голос дополнял картину. Помню ее романсы: «Не говори ни да, ни нет»… Содержание такое: если ты скажешь да, то сердце разорвется от радости, а если нет, то от горя»… Еще «Кузнец! Раздуй огонь в печи, железо раскали до красна. Потом по нем сильнее бей тяжелым молотом всечасно»… Поэт просит сковать цепь для его изменщицы жены… Еще помню песни военные, относящиеся к войне с кавказскими горцами. «Горные вершины, увижу ли я вас вновь… Кавказские долины, кладбище удальцов… Прощай моя невеста, прощай мой идеал… Любовь теперь не к месту среди угрюмых скал»… Припев: «Алоса-Аласу! Слава нам! Смерть врагу». Мы, дети, особенно любили эту песню… Еще была любимая: «Гуляет по Дону казак молодой»… Тетя обычно ездила по родственникам и знакомым. Ей везде были рады… Были и у нее недостатки (особенно в старости): она была страшно любопытна. И ее расспросы иногда раздражали и вызывали с нашей стороны, иногда довольно грубые ответы… Но, человек доброй души, она не особенно обижалась на резкие замечания…
Умерла она у нас в доме. Схватила воспаление легких. Угасла тихо и скромно… Вообще она была удивительно мягкий, добрый человек… Благодаря тяжелой жизни надо бы было ожидать злого, раздражительного характера, а вышло наоборот… Ни разу я не слышал и не видел ее злою, раздражительной… Вечно тихая, ласковая…
Тетя Анна Федоровна, а еще дядя Николай Федорович (брат отца, обедневший старик, которого отец приютил у себя) были большие любители играть в карты (в «Ералаш», «Сибирку», «Раме») и в лото. Но так как денег у них не было, то они играли «на мелок»… И вот, у них, когда они у нас жили, каждый вечер шли бесконечные игры… Приходили другие родственники и у них шли оживленные споры, даже ссоры из-за карт… Комичен был один случай… Игра кончилась… Дядя уже лег… А тетя горячо молилась… Вдруг среди молитвы тета останавливается и говорит: «Коленька, Коленька! А, ведь ты ошибся, неправильно записал наш проигрыш»… Дядя медленно встает, зажигает огонь, надевает очки, достает заветную записную книжечку и начинает производить подсчет… Делает соответствующие исправления и снова ложится… А тетя снова начинает прерванное свое моление… Все это было так просто, так наивно и в то же время умилительно, что у меня невольно запало в душу…
Трагична судьба и дяди Николая Федоровича. Он был сравнительно зажиточный человек (имел кожевенный завод, лавку), но был бесхозяйственный и доверчивый человек. Жил он по средствам. Сам-то он был скромен в потребностях, но семья его (жена и дочь) любила хорошо пожить, и тратили деньги не по средствам. Дом их был открытый. Вечно гости, вечно вечера, званые обеды… Наша семья жила скромнее, и семья дяди нас третировала, относилась к нам свысока… Но дела дяди все ухудшались и ухудшались… Завод был заложен, в банке было взято под векселя много, а платить было нечем.
Еще курьезно и оригинально было в нашей семье одно обстоятельство – наш дед (отец отца), Федор Михайлович, был оригинальный человек. Энергичный, с американской складкой. Затевал широкие коммерческие предприятия, чисто прогорал, вновь воскресал… Брал много казенных подрядов… В заключение в коммерческих целях выстроил тюрьму!… И сдавал ее правительству в аренду… Долгое время эта тюрьма носила название «Огарковский «дом»»… – «Вот тебя в «Огарковский» посадят» – часто приходилось слышать среди обывателей в разговорах… По духовному завещанию тюрьма была завещена трем сыновьям (Николаю Федоровичу, Василию Федоровичу (моему отцу) и Ивану Федоровичу… В дни расцвета своих коммерческих дел, дядя, Николай Федорович, скупил у остальных братьев части тюрьмы и стал единственным владельцем ее. Но долго держаться он не мог и заложил тюрьму в банк… Так как платить стало нечем, то и завод, и тюрьма осталось за банком… В конце концов, завод на торгах купил мой отец, а тюрьма осталась за банком… Несколько лет банк являлся ее владельцем, но, в конце концов, передал тюрьму правительству. Положение дяди все ухудшалось. Лавка его так же прекратила существование (главный приказчик разворовал). Пытался дядя брать подряды, но они окончательно подорвали его состояние… Снял он участок земли, но и на нем прогорел… Затеял, было, спичечный завод, но его не довел даже до открытия… Жили они в плохеньком домишке (который предполагал приспособить под спичечную фабрику)… Там и умерла его жена в большой бедности, а дяде и его сыну дал приют мой отец… Так дядя и умер у нас в доме, а его сын остался служить у нас, и был главным приказчиком…
К 100-летию Усманского уездного училища
Я учился в уездном училище во второй половине 70-х годов (77-78-79 г.г.). Училище тогда помещалось в наемном доме на Прогонной улице (дом Петрова)… Улица эта и в нынешнее время непролазная от грязи, в то время была еще и того хуже, тогда и мостков переходных не было. И горожане буквально утопали в грязи. У меня, например, остался в памяти такой случай. Нищенка Аннушка переходила улицу, но грязь ее тянула так, что она выбилась из сил, выкарабкиваясь из грязи… Пришлось прибегнуть к такому способу – бросить веревку. Она обвязалась ею и вот ее поволокли по грязи… Не редки, бывали случаи (не на одной только Прогонной улице, а и на других), что в глубокую осень телеги застревали. И телегу оставляли среди улицы, иногда до весны (мороз сковывал грязь, не позволяя вытащить телегу, а потом падал снег, и телега гостила среди улицы несколько месяцев). И вот на такой улице помещалось училище. Домик был небольшой, с низкими потолками, маленькими окнами, тесными комнатами, вообще, совершенно неприспособленный под школу. Верхний этаж отведен был под классы и канцелярию, а нижний под квартиру штатного смотрителя. Двор был грязный, со старыми покосившимися надворными постройками… все это вместе было убого, жалко, грязно…
Смотрителем училища был Павел Елизарович Соколов, «академик», как громко его называли. Вид он имел старого департаментского чиновника. Стриженная седая голова, бритый, в больших очках, в поношенном форменном сюртуке. Говорили, что он окончил курс духовной академии. Но благодаря великому русскому недугу (спиртным напиткам), карьера его не удалась, и он очутился всего только штатным смотрителем… У меня осталось о нем воспоминание хорошее… Хотя нам, мальчишкам, с ним мало приходилось сталкиваться… Под внешнею манерой грубого бурсакского обращения у него скрывалось доброе, хорошее сердце… Училище было все-таки очень распущено. Особенно отличался 3-й класс, в котором были юноши великовозрастные (с большими усами и с пушком на бороде). С манерами и наклонностями довольно нехорошими… У третьеклассников считалось особым шиком курить, говорить циничные вещи, ухаживать за барышнями… Любимыми занятиями во время перемен были азартные игры на булки и «черепенники»… Приходил булочник и клал на стол французскую булку, на нее другую, а на ту третью и т.д. (иногда укладывал до 5 булок)… Нужно было одним ударом ножа разрубить все булки. Если это играющему удавалось, то он получал все булки бесплатно. Если же не удавалось, то он платил булочнику по 5 копеек за булку… Подобная игра и в «черепенники». Черепенники пеклись из гречневой муки, клали в форму усеченного конуса и были небольшого размера. Обычно продавали их, разрезанными вдоль, посыпанные крупной солью и политые конопляным маслом. Вкус имели блинов. При игре их ставили рядом, играющий должен был одним ударом в горизонтальном положении перерубить все черепенники… Игра варьировалась: булку подбрасывались и играющий должен был разрубить булку налету… Мы, маленькие, не допускались к этой игре. Это была привилегия третьеклассников… Помимо этого, играли в чехарду, в свайку, дрались на кулачках и прочее. Часто устраивали игры в солдаты. Помимо наших учеников, участвовали и несколько других школ. Время было как раз военное (русско-турецкая война) и мы устраивали примерные сражения, маневры и прочее. Иногда кончалась серьезной дракой, в которой под конец принимали участие и взрослые…
Любили мы еще устраивать акробатические представления в подражание часто посещавших город акробатам и небольшим циркам… Надо сознаться. Что нравы тогда были грубые и мы, мальчишки, бессознательно научились многим циничным выражениям грубым шуткам и прочее… Я как сейчас помню, в какой ужас привел однажды я свою семью, когда, желая пооригинальничать, отпустил какую-то циничную шутку. Смысл, которой, я и сам тогда не понимал… К Павлу Елизаровичу мальчишки относились благодушно, не особенно боялись, его… Я помню один только случай личного обращения к нему. Мой старший брат ехал учиться в Петербург, и мне хотелось его проводить, почему я и пошел к Павлу Елизаровичу просить разрешение не приходить на завтра в училище… Как сейчас помню его «убогую квартиру»…
– «Ты что, мальчик?».
– «Разрешите мне…» – начал я со слезами на глазах просьбу – «Завтра брат в Петербург едет учиться, проводить его». Я залился горючими слезами…
– «В Питербрюх?»… Чего же ты плачешь, мальчик? Это он хорошо делает… В люди выйдет. Не плачь! Ступай! Проводи, проводи! Это хорошо»… В его словах было много тепла и ласки, и они остались у меня в памяти навсегда…
Первое время, насколько мне помнится, училось нас человек 40-45. И мы в большой тесноте размещались в маленьких комнатушках дома… С увеличением числа школьников, 3-й класс был переведен во флигель (маленькую избушку с одним окном, стоявшую на дворе)… Это отделение 3-го класса было не в пользу учащимся, так как надзора за ними, благодаря такому удалению, почти не было, и они были представлены самим себе… Ученики пользовались этим и часто безобразничали… Запирали изнутри дверь и начинали курить, насильно заставляя курить и тех, кто никогда не курил… Или начинали рассказывать неприличные анекдоты, или свои похождения…
Павел Елизарович служил при мне не долго. После него, насколько мне помнится, поступил Григорьев, который внес некоторые новшества в школьное дело. Но о нем после…
Перейду к преподавателям. С грустью должен сказать, что за исключением святого отца Василия Никольского, все преподаватели были ниже всякой критики…
Учитель географии был Фаворский, никогда не объяснявший урока. А задавал по книжке «от сих до сих»… Приходилось зубрить без малейшего понимания… Учебником была «география Ободовского»… На всю жизнь она осталась в моей памяти… Я никак не мог заучить первого урока, говорившего о шаровидности земли… Начало помню до сих пор: «Если мы стоим на поверхности земли, то»… Дальше не шел… Фаворский всех плохо отвечавших ставил к стенке, в угол на колени, оставлял без обеда, заставлял вызубривать… Помню картину: Фаворский ходил по классу, а мы в разных позах (кто у стены, кто в углу или на коленях), с географиями Ободовского зубрили, зубрили… В прочим, Фаворский сознавал свою непригодность как педагога и перешел на другое поприще – частного поверенного.
Еще вспоминаю учителя чистописания и рисования (кажется по фамилии Саржинский)… Алкоголик, он редко посещал уроки, представляя школьникам самим вести занятия… И мы сами забирали грязные, продранные прописи или рисунки – образцы, наклеенные на толстый картон. Засаленные, оторванными углами и в 1001 раз писали и рисовали одно и тоже… Часто за порядком наблюдал вместо учителя староста. Этого учителя я застал в конце его службы… Бывали случаи, что он в класс приходил в нетрезвом виде…
Был один симпатичный учитель математики – Тамбовский, но при мне он занимался не долго, и перешел в женскую прогимназию, тогда только что открытую.
Чем-то свежим повеяло, было вначале от преподавания истории и географии новым учителем (кажется, Медведевым), но алкоголь сгубил и эту силу. Медведев повел свою работу на темы по географии и истории, читал и рассказывал нам. Но это продолжалось не долго…
Более солидным и, я бы сказал, более тактичным для своего времени педагогом был А.Е. Нерода… Он преподавал русский язык. Был трезвый, аккуратный по службе, но был несдержанный (часто дрался), любил подарки… За свои рукоприкладства он подвергался инспекторским дознаниям, следствиям… И я как сейчас помню один допрос окружного инспектора (нас всех мальчиков допрашивали). Тогда я покривил душой и сказал, что не видел как он дрался, когда факт этот был… все дознания кончились благополучно и он в конце концов получил место штатного смотрителя в нашем же училище. Учеба царила у нас скучная, нудная… Никаких попыток дать детям что-нибудь оживляющее, интересное, устроить какой-нибудь вечер, какое-нибудь интересное занятие… Помню один только случай, когда один заезжий человек показывал нам в школе модель рудника с двигающимися фигурами рудокопов… За это собрали с нас по 10 копеек в пользу проезжего… Для себя, правда, педагоги иногда устраивали любительские спектакли, вечера, но для детей по инициативе школы, ничего не делалось. Единственно живым человеком был отец Василий Никольский. Преподавал закон божий он не по книжкам, а устным путем рассказов и бесед… Давал нам письменные работы… Интересовался нашей жизнью, нашими занятиями. Иногда, собирал у себя детей, вел с ними беседы, угощал конфетами. Иногда принимал участие в их играх в лапту, в бабки. Его любили, хотя бывали у него и минуты гнева (он был вспыльчив) и он наказывал детей (ставил на колени, оставляя без обеда)… Но проходила вспыльчивость и появлялась снова ласка. Осталось у меня одно воспоминание, довольно смутное… Чем-то рассерженный, он хотел вести меня домой, что бы отец или мать меня наказали при нем розгами (у нас в доме розги никогда не употреблялись)… Но потом гнев прошел, и он смягчился… Все-таки у меня о нем остались, в общем, хорошее воспоминание. По уходе отца Василия в прогимназию с нами стал заниматься отец Николай Тихонравов, относившийся вполне добросовестно к своей работе, но до отца Василия ему было далеко…
Хотелось сказать о взаимоотношениях существовавших между учащимися и учителями. Учителя часто пользовались нами, как своей прислугой – посылали в лавку за табаком, папиросами, посылали по делам к себе на квартиру (часто за калошами, за пальто и другим). И этой чести удостаивались обыкновенно лучшие ученики. Часто устраивали поборы… Приходит, например, учитель в класс и говорит:
– «Дети, у вас должна быть своя классная чернильница… Принесите завтра по 20 копеек»… Приносят ребята деньги. Учитель собирает их и кладет в карман, а потом говорит:
– «Иванов (или Петров), сходи ко мне домой и спроси у жены чернильницу»… И вот водружается старая, грязная чернильница в качестве классной… Или вот тоже… Говорит учитель:
– «Дети… Скоро пасха… Не забудьте прийти меня поздравить»… Приходят дети домой и рассказывают родителям, а те ломают голову – что подарить учителю… Помню, мой отец решил подарить 1 фунт чаю… И вот, как сейчас помню, еду я с этим драгоценным подарком. Меня принимают радушно. Поздравляю, христосуюсь, преподношу чай. Его принимают с благодарностью, а мне за это дарят апельсин… Много таких комичных случаев всплывает в памяти…
Нечто новое внес новый штатный смотритель Григорьев. Он подтянул несколько распустившихся педагогов. Ввел торжественные публичные акты с пением, с речами и показными ответами учеников. Более правильно и торжественно начал выдавать награды учащимся за успешные переходы из класса в класс. Внес и еще кое-какие изменения. Всеми этими изменениями он заинтересовал и родителей и школьников… Так бедна была жизнь школы, что всех эти показные приемы составили целое событие в школе… Акты усилено посещались местными гражданами. Посещали и бывшие ученики, кончившие школу ранее. Таким образом, создалась связь между школой и обществом…
При школе была библиотека. Но мы, дети, мало ей пользовались. Лучше, конечно, была поставлена учительская (так называемое фундаментальная) библиотека. Но ею дети не пользовались… Товарищеской спайки среди учащихся, конечно, не было. Ведь мы были дети, да и не прилагалось старания к этому со стороны преподавателей. Лично у меня была дружба с одним мальчиком Алешей Склядневым, талантливым рисовальщиком (взрослым он поступил актером в провинциальную труппу). Мы с ним издавали журнал (помнится, назывался он «Смесь»). Я был и редактором, и писателем, а он иллюстратором. Чем же заполнялся досуг детей? Уличными играми, посещениям представлений разных приезжих артистов (главным образом акробатов и гимнастов), хождением в церковь. Принуждения в хождении в церковь тогда не существовало… Дети больше жили в семье, школа не отрывала их от семьи…
Вот все, что могла мне восстановить память об уездном училище… В следующие годы школа эта улучшалась, были и хорошие преподаватели (Ахтырский и еще один, фамилию не помню, покончивший жизнь самоубийством). Но все это было уже позднее… Не смотря на все свои недочеты, школа, несомненно, оставила след в общественной жизни города и уезда. Ведь это было единственное училище повышенного типа для большого района (на 200 000 жителей), давшее и свет, и знание целому ряду поколений Усманских граждан, из которых потом вышли общественные работники, отдавшие свои силы на служение родному краю…
Белой акации гроздья душистые
О дорогая юность! О дни светлых радостей, дивных мечтаний и грез!... Как вы дороги, особенно теперь, когда иней старости затушил их волосы, когда непогода жизни развеяла все эти мечты, все эти грезы! Никогда не забыть вас!...
Были первые числа июня 1885 года… Солнце светило так ярко, так радостно! Экзамены в реальном училище г. Воронежа кончились и наш выпускной класс, условившись собраться на последнем экзамене вместе, с веселым шумом выходил из училища… еще раз, дней через пять придем мы сюда за аттестатами и скажем последнее «прости» своей «alma mater»… Разбредемся потом по разным углам обширной России. Поступим в высшие учебные заведения… А некоторые из нас прямо со школьной скамьи вступят в новую жизнь… У всех нас строятся широкие планы будущего… Все мы смело смотрим вперед… Отчего так радостно на душе? Отчего так хочется обнять весь мир, любить всех-всех людей?... И это ласковое солнце – не для нас ли оно так ярко светит?.. А река, а лес!... Они так заманчиво зовут нас к себе… Дружной, веселой компанией будем проводить мы эти пять дней, а потом распрощаемся, друг с другом и разойдемся. Со многими, пожалуй, и навсегда… Сколько планов роится в наших юных головах!... Какие обеты даем мы друг другу!... Как чисты, прекрасны, становимся мы в эти минуты!...
Сегодня назначена поездка на лодках… Заберем своих друзей и знакомых, провизию и на всю ночь на «плес»… Радостный, веселый иду на свою квартиру… Знаю, что меня встретит «Верочка» (дочь хозяйки квартиры) и с волнением жду этого момента… Да, милая, жизнерадостная Верочка… Высокая, стройная, с большой белокурой косой, с ясными серо-голубыми глазами… Она в одно время с нами кончила гимназию и собирается на курсы в Москву…
Вхожу… Меня встречает квартирная хозяйка, старая, благодушная хохлушка… А вот и Верочка…
– «Ну, поздравляем, поздравляем!... Скоро студент… В Питер?... А я обязательно в Москву на Герьевские курсы… А то бы устраивались в Москве… В Петровку, были бы вместе. А противного вашего Питера не люблю»…
– «Да погоди ты тараторить… Дай «Хведе» отдохнуть, закусить, а потом чайку попить… Вот тогда и тараторь» – урезонивает ее мать… Я доволен лаской, доволен радушием, но напускаю на себя солидность…
– «Погодите, Верочка… Дайте, правда, отдохнуть… А вечером на «плес» едем все… Ведь Вы, конечно, тоже с нами?»…
– «Конечно, еду… Возьмем Владимирыча, Ваничку, Лазаря, Жана и всех-всех». Она начинает тормошить меня, смеяться… Но вот я пообедал, напился с хозяйкой чаю (она большая любительница чая, и мы с ней в день, раз пять пьем его). Иду в свою маленькую уютную комнату. Сажусь писать письмо своим родителям. Скоро увижусь с ними. Приеду в родной город уже взрослым молодым человеком – студентом… Я задумываюсь. И вот передо мною в памяти проходит 5 лет моей ученической жизни в Воронеже (я поступил прямо в 3-й класс реального училища)… Грусть расставания с семьей. Тоска и слезы. Жизнь в чужой семье, в чужом городе, в тяжелой обстановке (первый год в квартире кастелянши в больнице, 2-й год у аптекаря). Радостные минуты встречи со своими родными… Приезды на святки, на Пасху, на каникулы домой… все это проносится в моей памяти, как в калейдоскопе.
До пятого класса я уезжал из дома с тяжелым чувством, с рыданиями, так что родители стали уже подумывать взять меня из училища – так мучительно тяжело было нам друг с другом расставаться… Но вот с 5-го класса настроение мое меняется… Новые товарищи, знакомые, новые интересы. Я полюбил чтение. И я стал уезжать из родительского дома с другим чувством…
Моя сознательная жизнь началась с 5-го класса, благодаря дружбе с одним реалистом старшего класса – Колей Лебедевым… Он первый открыл передо мной широкую и яркую картину борьбы за обездоленных, которую вела партия «Народной Воли»… Из его рук впервые я получал подпольные листки, брошюры, и книги… Он ввел меня в кружок этих борцов… С каким чувством гордости и счастья читал я эти листки… Многое мне было неясно. Но одно сознание, что ты являешься причастным к великому делу, что тебя могут ожидать и страдание, и мука за великую идею освобождения угнетенных, возвышало душу, заставляло радостно биться сердце… Помню частые, загородные прогулки наши по берегам рек Воронежа, по рощам и лесам… Он так хорошо, убедительно говорил о долге, об обязанностях служить народу!... Часто вместе с ним читали мы эти дорогие нам листки… Нас захватывали призывы… Мы чуть не плакали над описанием мук и страданий борцов за идею… И мы давали клятву всю жизнь посвятить великому делу… Помню встречи с революционерами… Первый транспорт революционной литературы, привезенной из-за границы… Я как сейчас вижу изящный книжный революционный календарь «Стих», «Морозов» и другие… А вечеринки, устраивавшиеся местной революционной группой для пополнения кассы… Здесь встречал я тех, кто уже сидел в тюрьмах, или кто был выслан административно… Здесь впервые я встретил тех, кого полюбил, и с которыми жизнь моя была надолго связана: «Дед», «Ваничка», «Владимирыч» и другие…
В шестом классе у нас образован кружок. Мы издавали классный журнал… У меня образовались знакомства из среды людей «подполья». Прокламации, номера «Народной Воли», заграничные брошюры – все это волновало, захватывало… Эти горячие призывы на борьбу с врагом (правительством). Эти некрологи погибших борцов… Все это будило в душе самые лучшие чувства. Сама таинственность, конспирация имела свою привлекательность… Сознание, что ты являешься частицей чего-то громадного безымянного, кующего там, в подполье счастье измученному народу также действовало на юношу, и он со всем пылом, со всей своей страстью отдавался этому делу… Было, конечно, много и наивности и бравирующего… Сидишь, бывало, за уроком, вдруг товарищ, сидящий сзади, толкает тебя и осторожно передает прокламацию, стараясь сделать так, чтобы не увидел учитель. В шестом классе я занялся пропагандой… Стал распространять революционную литературу среди учащихся местного кадетского корпуса… Скоро наша работа была, конечно, раскрыта, так как конспирации почти не существовало. У меня и моих товарищей был сделан обыск. Кой кого арестовали. Меня отдали под надзор учебного начальства. Началось жандармское дознание. Чуть не каждый день во время большой перемены за мной приходил жандарм и вел в управление… Там начиналась нравственная пытка допросов… Для меня дело кончилось благополучно – меня не исключили. Выдали аттестат с пятеркой в поведении. Через прокурора окружного суда я должен был выслушать официальный выговор, якобы от имени Государя и напутствие – больше не заниматься такими делами…
Вот все это я передумал и перечувствовал, сидя в своей комнатке… Я жалел прожитую жизнь. Жалел, что так мало сделал… В прошлом я не раскаивался. Я мечтал, что, будучи студентом, я сделаю во много-много раз больше…
Реальное я свое любил… У меня создались прекрасные отношения с педагогами. Среди них были идейные, высоко интеллигентные люди. В моей истории, наделавшей тогда много шума в городе, весь педагогический персонал, даже во главе с формалистом директором, вели себя прекрасно. Все время, горячо и энергично защищая меня… Благодаря тому, что они взяли меня на поруки, под свой надзор, я был избавлен от сидения в тюрьме… Быстро промчались эти 5 лет, и мне их жаль, как жаль дорогого товарища, с которым ты расстаешься… Было много грустного в прошлом, но еще больше было хорошего, чистого, лучезарного… А впереди… Впереди – жизнь, еще более интересная, еще более красочная… Скорее, скорее туда, в дружную студенческую семью, в этот сырой, холодный, но дорогой по историческим воспоминаниям Питер… Скорее в среду идейных работников и борцов за благо счастья народа.
Широкая река. Наша компания вся в сборе. Все с кулечками, сумочками. Хозяйственную часть по обыкновению взял на себя Владимирыч. Длинный, худой, в больших очках с жиденькой бородкой человек с большим политическим прошлым. Не раз он сидел в тюрьмах, был в ссылке… Усиленно торгуется он с лодочниками, и выбирает лучшие лодки, собирает продовольственные запасы, принесенные всеми… Наконец, садимся в три большие лодки… Я, конечно, с Верочкой… Я не знаю почему, не могу объяснить, но что-то притягивает меня к ней… Отношения товарищеские, дружеские. С ее стороны, пожалуй, несколько покровительственные, так как она считает себя старше, обладающей большим жизненным опытом, а меня еще мальчиком… Иногда это кажется, мне обидным… Но, в общем, отношения между нами самые прекрасные… Около Верочки вертятся многие юноши. Она как будто больше оказывает предпочтение студентам… Это разжигает во мне чувство зависти, чувство досады… Но ласковая шутка, дружеское, товарищеское обращение со мной все искупает… Да, наконец, я, ведь так же скоро буду студентом…
Лодки медленно плывут по гладкой поверхности реки… Слышится говор, шутки, смех. Более солидные ведут серьезные разговоры…
– «Что же, Владимирыч, пора начинать песню… Запевай «Дубинушку»»… И вот, над рекой раздается мягкий, не особенно сильный, но симпатичный голос Владимирыча: «Много песен слыхал я в родной стороне»… Хор подхватывает: «Эх, дубинушка, ухнем!»… Стройно и величаво раздается над рекой пение несколько десятков сильных, молодых голосов… За этой песней идет ряд других. Сначала с гражданскими мотивами, а потом чисто русских, народных…
– «Жан, спойте свои любимые романсы» – кричим мы… Веселый балагур Жан начинает свой репертуар с грустных романсов: «Расставаясь, она говорила…», «Я сегодня так грустно настроен…». Потом переходит к более веселым, шуточным… Наконец, начинается декламация. Мшанина, стриженная, миловидная девушка декламирует свое любимое стихотворение:
Пускай падешь ты под ударом,
Но падешь ты в честном бою.
И с сознанием, что не даром,
Сложишь голову свою…
Эти, довольно не художественные стихи, выходят у нее красивыми, стройными… В разных местах лодки идут шумные разговоры… Все спешат высказать свои взгляды… Хочется излить душу.
– «Феденька! Как Вы думаете устроить свою жизнь?» – спрашивает меня Лазарь, один из серьезных работников… – «Надо теперь же выработать себе вкусы, создать свое миросозерцание»…
– «Обязательно кончу» – говорю я смущенно, весь, краснея – «работой общественной или в земстве, или в городском самоуправлении… Буду устраивать школы, библиотеки, курсы, книжные торговли»…
– «Ну, хорошо! А я к тому времени кончу курсы и буду учительницей в вашей гимназии» – говорит ласково Верочка. – «Впрочем, вряд ли это мне удастся… Наверное, жандармы сцапают раньше»… – «А я, братцы, обязательно на завод, инженером поступлю. И буду работать среди рабочих. И создам из них кадр сознательных, стойких борцов… О, как я люблю завод!... Когда я раз путешествовал по Сибири, взошел на пригорок. И передо мною открылся дивный вид: широко раскинулся завод с доменными печами, с высокими трубами… Мое сердце забилось трепетно… Вот оно мое будущее!... Вот здесь найду я счастье, здесь моя работа!»… Я слушал с наслаждением голос милого, славного Анатолия, студента Горного института…
– «Дай бог нашему теляти, да волка поймати»… – юмористически, нараспев, полушутя говорит Жан…
– «А я пойду в народ. Буду заниматься пропагандой…» – говорит полный, белокурый Володя М. – «Нам не до личного усовершенствования, а надо по месту о народе… Никакая работа сейчас невозможна… Надо переменить политический и экономический строй… Только тогда и возможна работа на фабриках, заводах, в земствах и городах… А теперь работать – только прислуживаться правящему классу… Лудить умывальники, да чистить больничное белье, да азбуку, конечно, распространять… Нет, покорно благодарю… От такой работы увольте меня!»... Ему начинают возражать.
– «А забота о больном и неграмотном, темном народе… Вылечить от лихорадки. Спасти ребенка от дифтерии и пр. Обучить грамоте в школе крестьянских детей… Приохотить их к книжке, раскрыть перед ними широкие горизонты… Разве не плодотворная работа?»... – говорит сельская учительница Рушина… Поднимается горячий спор. Каждый стремиться переубедить другого… Все мы торопимся поделиться своими планами, мечтами… Все мы горим глубокой верой в лучшее будущее, в перемену строя, осуществление социалистических идеалов… Мы за них готовы положить душу свою…
– «А что вы, белоручки, будете делать в новом строе? К трудной, тяжелой работе вы не привыкли… Чем же вы займетесь?»… – ехидно задает вопрос Жан…
– «Что же раз мы будем в тягость новому строю, раз мы не сумеем приспособиться, мы просто устраним себя»… – энергично парирует удар Анатолий»… Бедный Анатолий, не дожил до нового строя – он устранил себя, кончил самоубийством, разочаровавшись в своих силах…
Но пока мы все глубоко верим в лучшее будущее, в светлую мечту… За это порукою – подпольные листки и брошюры, которые с жадностью прочитывали мы… За это же говорит и опыт старых бойцов. Которые успели уже принести жертву в виде сиденья в тюрьме, административной высылке, ссылке в Сибирь, каторге и пр., и пр. Наконец, порукою наша молодость, наше незнание жизни… Разговоры переходят на эту почву, зажигая в нас благородный огонь любви к меньшему брату…
Тихо плывут лодки на встречу красивому, зеленому полуострову… Бурно, радостно текут наши речи, как бы встречая уже это лучшее светлое будущее… Мы клянемся отдать за него свою жизнь… И это не ложь, не фальшь – это вытекает из восторженного настроения души…
А солнце уже на закате, своими мягкими красноватыми лучами ласково обнимает нас, как бы прощаясь с нами… Но вот и «плес» с большой водяной мельницей. Это историческое место. В 70 годы здесь конспиративно собирались «землевольцы». Здесь решался вопрос о создании партии «Народная Воля»…
Солнце уже зашло… Стемнело… Разводим костры. Варим кашу, ставим самовары… Начинается беготня, игры, шутки, веселый смех… Забыты все серьезные споры… Верочка гуляет, оживленно болтая с Иволгиным, студентом 2-го курса Горного института, очень остроумным и веселым юношей… А я один… Мне грустно, мне завидно… Но почему?... Что это за чувство?... Если увлечение, любовь?... О, нет, нет… Я не могу, я не должен любить… Когда впереди столько дела, когда кругом столько горя. «Надо грезы личного счастья проклясть»… И вот я настраиваю себя на иной лад… Я начинаю строить планы – как поеду учиться, как подружусь с хорошими, идейными людьми. Буду читать, войду в среду писателей, общественных деятелей, буду слушать их, учиться у них… А потом кончу, поселюсь у себя в городе или еще где-нибудь. И буду устраивать школы, библиотеки, музеи, курсы… Ну, а вдруг арестуют… Ну, что ж! Буду сидеть в тюрьме, а может, и сошлют… Меня будут жалеть… придут мои родные навещать… Придет и Верочка… Ах, опять Верочка! Почему, именно Верочка, а не Мшанина или еще кто другой… Нет, нет! Это все не то!... Я буду борцом… И если нужно, умру за идею…
– «Куда же это Вы запропастились, дрянный?»... – Слышу милый голос Верочки…
– «Все веселятся, а он один. Что это значит?... Да и вид у Вас какой-то особенный… Идем, идем в общую компанию!». Она берет меня за руку, крепко ее жмет… Я отвечаю тем же, но в тоже время смущаюсь… Мы идем к общей компании, там уже готова каша. Нас встречают благодушными улыбками… Я снова конфужусь…
А ночь дивная, благоуханная… Уже расстилает свой покров над нами… Луна появилась на горизонте – большая, красная… Где-то поет соловей… Трещит коростель… Слышаться какие-то неопределенные ночные звуки… А костер разгорается, освещая, молодые, полные жизни и радости лица… О как хорошо, мучительно хорошо жить на свете! Верочка все время была со мной… Мы болтали, бегали, ловили друг друга, шутя, боролись… Но это крепкое пожатие руки… Этот ласковый взгляд… «И душа молодая не властна грезы личного счастья проклясть!» А как хорошо смотреть в эти ясные глаза… Как приятно пожимать эту милую руку… Как хотелось бы прижаться к ней и целовать, целовать ее без конца… Но что я?... разве это возможно!... А где же принципы?... Да, наконец, что подумает Верочка… Нет, мимо, мимо!...
Молодежь разбилась на группы, на парочки…Я остался с Верочкой… Эта дивная ночь, вся фантастическая обстановка… Боже!... Как безумно, мучительно хочется счастья!...
– «Ну, Федя! Какой Вы, право, странный! Чего Вы сторонитесь меня? Давайте руку… Пойдем вместе? Вы боитесь меня? Ах, мальчик. Милый мальчик!... Я теряюсь… Я очень застенчив… Чувствую, как краснею… Мне хочется поцеловать у Верочки руку, но я не в силах этого сделать… Мне стыдно, неловко…
Но вот и рассвет начинается… Бледнеют краски. Все собираются в лодках… Нет уже того оживления… Ну, теперь по домам!... А завтра на полотно железной дороги – прогулка в Троицкую слободу…
Материал предоставлен -
Карчевским Д. А. 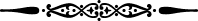 |
|
|

