|
|
 |
Огарков Ф. В. - Материалы дневника.
СЛУЖБА В 112-м ТАМБОВСКОМ ПОЛКУ
14.12. (26.12) 1888 г.
«Я лучший перл со дна души достал.
Чистейшее воспоминание!»
Люди ведут дневники. Отчего бы и мне не заняться этим? Правда, это как-то отзывается сентиментализмом. Но, ведь, бывает иногда такие минуты, когда хочется посентиментальничать. Да, отчего бы и не посентиментальничать? Мне сейчас пришла охота записывать кой-что из своей жизни (как прошлой, так и настоящей)... Это «кой-что», пожалуй, будет и не для одного меня интересно. Итак, буду писать о своем прошлом, настоящем и будущем...
Самая интересная пора моей жизни началась у меня лет пять тому назад, когда в голове моей забродили кой-какие мыслишки, появились кой-какие чувства... Я был тогда в шестом классе гимназии... Раньше я мало читал, но с того года, и в душе, и в мыслях моих, произошел переворот. Начало этому перевороту положил роман Станюкевича «Два брата»... Я в первый раз узнал, какие люди есть на свете... В первый раз появилась в моей голове мысль «о смысле жизни»... В дальнейшем моем развитии большую роль играли мои квартирные хозяева... Как сейчас живая стоит передо мною В.!... Эта энергичная, милая девушка оставила не маленький след в душе моей!... Не скоро дойдут до нее мои думы, чувства (да и дойдут ли когда?)!... Вот она живая, веселая, со светлыми, милыми глазками, со светло-русой косой, бойко и живо бежит по железнодорожной насыпи. Я насилу поспевал за ней... Лица наши разгорелись от летнего жару, а ее еще и от беготни (она тихо не может ходить)... Мы ведем какой-то веселый, живой разговор... Но не всегда так бывает... Иные вечера мы проводили и так: соберемся компанией, сидим и читаем. Часто у нас завязывались споры о «важных материях». Я во время споров большею частью молчал. Отчего это происходило – я сам хорошенько не мог определить. Была тут причиною – частью моя робость, застенчивость, а частью и неохота... Ведь, все, о чем спорилось в нашей компании, все это меня живо интересовало. В душе я все сознавал и понимал, а языком я этого не выражал. Уж, если я чувствовал сильное противоречие с моими взглядами, тогда и я вступался... Но я любил наши импровизированные «литературные вечера». На них так хорошо, так весело было! Кроме В. на наших вечерах участвовали и другие: две сестры В. и еще некоторые лица... Да, славное, светлое тогда времечко было!... «Как хороши, как свежи были розы!»... Да, тогда были только одни розы и ни одного шипа!... Мне только теперь стало казаться, что я любил В. тогда, но только старался скрыть это, как от нее, так и от себя... Да, я насильно заставлял себя не любить ее, не думать о ней... Сколько томительных вечеров и ночей я провел в мечтах о ней!... Но мне почему-то казалось, что я не должен ее любить, и я это свято хранил в моей душе, но воля моя была слаба, и я со всем жаром юношеской страсти отдался своей любви... Теперь все это прошло, все миновало... Мы – друзья, и только... И всему виною – я. Меня начала мучить совесть (!)... Вспоминались мне слова одного поэта о том, что нужно «грезы» личного счастья проклясть... И я их проклял!... В. тихо посмеялась надо мной, назвала меня «альтруистом» и осталась моим другом... Мы расстались давно, но мы не разорвали нашу духовную, нравственную связь... Нас, как друзей, обоюдно интересует наша жизнь настоящая и будущая... Мы в жизнь вступили со светлыми надеждами на будущее... Судьба уже успела дать ей тяжелый крест. Пока она несет его безропотно и бодро. Что-то будет дальше? Мне судьба тоже послала испытание, но я уверен, что я сумею его снести...
Наряду с этой милой, светлой девушкой, в моих воспоминаниях рисуется и другой симпатичный образ, образ моего товарища К. Вот он маленький, худенький, с жиденькой бородкой, неуклюже расположенной на нижней части лица, с большими, добрыми глазами, глубоко сидящими в глазных впадинах, стоит передо мною и тихо что-то говорит... Особо памятен мне один вечер, когда мы признались друг другу в любви. Это был тихий, славный весенний вечер. Солнце уже было близко к закату. Воздух, наполненный запахом свежей зелени, сладко как-то раздражал легкие. Мы шли с К. из пригородной деревни (с наступления весны мы каждый вечер совершали такие прогулки). В этот раз мы говорили о нашей молодежи. Обыкновенно наши прогулки сопровождались или искренними беседами интимного характера, или созерцанием картин природы (картины, надо сказать правду, рисовались нашему взору замечательные, широкая река омывала берега большого города, залитого красными, огненными лучами заходящего солнца. Зеленые луга с холмами, деревеньки с белыми церквами, одинокие мельницы, все это, в общем, составляло такую чудную картину, что взоры невольно останавливались на всем!), или я слушал его поучения. А он многому меня научил! Много новых вопросов, новых мыслей появилось в моей голове, благодаря нему... Так, вот в этот раз шел у нас разговор о молодежи, и ее будущем... Солнце уже село. Становилось темно... В городе стали зажигаться огни. Шум городской начал затихать... Потянуло сыростью с реки... темнота надвигающейся ночи, свежесть воздуха, запах распускающейся зелени, все это слилось в цельную гармонию развивающейся жизни природы. Это «оживление» природы наполнило и наши души... Уж и не знаю хорошенько, что нас побудило объясниться друг перед другом в любви. Должно быть, все это вместе: и оживающая природа, и наши хорошие беседы, и давнишняя наша привязанность друг к другу... Мы подходили к моей квартире. – «Знаете – что?» - сказал я робким голосом – «Давайте говорить друг с другом "на ты"? Да уж и называть-то будем друг друга тоже не по имени и отчеству, а только по имени!»... Вот с этих-то самых пор мы и стали друзьями... После этого случая мы с ним недолго были вместе: он, месяца через четыре уехал в Питер, поступил в Университет и оттуда начал со мной переписку... Уезжая, он познакомил меня с некоторыми своими знакомыми. Эти знакомства играли в моей будущей жизни большую роль... Но, об этом я поговорю после (завтра или когда вздумаю продолжать свой дневник)... Скажу только то, что в пору моей дружбы с К., я был очень молод и мыслями, и чувствами... «И ребенок душою я был»... Мой ум, хотя и работал, но он был очень, очень молод. Эта-то молодость ума и сердца принесла, вскоре по отъезду К., мне много страданий и горя... Но об этом поговорим после. А пока довольно, пора и отдохнуть.
8 часов вечера.
15.12. (27.12) 1888 г.
Мороз сегодня был очень крепкий, когда я с братом выехал из дома в окружной суд. Там были «не интересные» дела о кражах. Один, например, парень 22-х лет судился в 5-й раз за кражу (он начал воровать с 16 лет). Его приговорили к трем годам арестантских рот. Парень этот попался на краже шлеи и хомута (да и то от него было отобрано!)... Присяжные были очень гуманны: или оправдывали, или обвиняли со снисхождением... Печальные явления... Обвинить тяжело и не обвинять опасно! Ведь, наверно, тот самый парень, который с 16 лет начал воровать, еще более развратится и сделается более крупным вором. А отчего он cделался вором в 16 лет? Это не известно. Быть может, такова окружающая обстановка была, что лучшие качества души человеческие были подавлены, а наружу выползли одни гадкие... «Кто виноват? У судьбы не допросишься»... Да, тяжелое положение: сознавать виновность, и в то же время обвинять!... О, эта проклятая действительность! Как глубоко она въелась в нашу жизнь... «Не судите, да несудимы будете!»... Как хорошо и в тоже время, как страшна эта фраза! Ведь, благодаря ей, могут гулять на вольной воле много врагов (истинных) народа и страдать истинные друзья народа… Как противны мне становятся за последнее время фразы: дурной член общества должен быть удален из общества. Да от чего этот член общества дурным-то стал? Ведь если бы само общество было прекрасно, разве мог бы среди него появиться дурной член?... Прекрасно чувствуешь, ясно сознаешь всю истинность этого положения, но в тоже время, не можешь строго следовать ему. И какая масса в нашей жизни таких противоречий!... Я вспоминаю сейчас одного присяжного: с полицейской точки зрения – не пойман, не вор – он человек безупречный, имеющий право судить других людей… Но, что за человек на самом-то деле?... И он осуждает другого и в тюрьму, и в ссылку, и на каторгу. А ведь таких людей с «безупречной» совестью у нас у нас много!... Или, как вам понравиться положение прокурора? Ведь в сущности нельзя же предположить, что бы он (прокурор) обладал каменным сердцем. Посмотрите его в частной жизни, в разговорах – какой это милый, симпатичный человек: и этот милый, симпатичный человек с полнейшей сердечной легкостью (даже с зевотою) приговаривает человека в тюрьму, в ссылку, на каторгу, а подчас, и к смертной казни!... И какую громадную важность играет в этом привычка! Прокурор привык судить, и он судит… Им это надоедает (подчас зевают), а все-таки судят… Им уже не мерещиться эти «язвы общества, неурядицы»… Уж перед его глазами не встают образы этих страдальцев голода, холода, нищеты, разврата, неразвитости. Они видят только людей, которых надо судить, за что им дают квартирные, столовые, да еще жалование… Мне кажется, привычка и палача может заставить легко относиться к своему делу: ведь часто повторяющиеся факты, притом освещенные законом, могут окончательно приглушить человеческие нервы… А когда это придет то времечко, когда не будет на свете «ни слез, ни вражды (а, ведь, только от того эта вся жизненная неурядица и существует, что на свете есть только вражда, борьба, что нравственность общества… (текст отсутствует).
Это было месяца два спустя после катастрофы. Я пришел просить у него (Деда) прощения: я был виновником его несчастья (хотя и невольным). Он уже успел забыть все прошлое и радостно встретил меня. Мы долго, долго говорили. Конечно, он меня «простил» (ему даже странным казалось это слово)… Потом помнится мне 26 мая, когда он отправлялся в далекий край. Мы, его прежние друзья и ученики, пришли его проводить (нас было немало). Барышни (а в их числе и я) принесли ему на прощание букеты цветов… Он шел с букетом в своей черной шляпе с огромными полями среди большой толпы серых халатов, которую со всех сторон сопровождали солдаты… Однозвучно звенели кандальные цепями… Он изредка посматривал на нас своими добрыми глазами и помахивал букетами… Потом его посадили в арестантский вагон… Потом свистнул паровоз и он простился с нами надолго… С некоторыми барышнями сделалась истерика… Да, его не стало!... Вот этот-то гром и поразил меня… Я много, много думал, много нашел несообразностей в своей жизни, как прошлой, так и настоящей. Мне захотелось жить другою жизнью. Я дал себе клятву – переменить свою жизнь… Я начал больше читать, заниматься.
18.12. (30.12.) 1888 г.
Мороз стоит на дворе страшный… И это уже несколько дней так. Можно себе представить, сколько народа теперь зябнет, если даже в богатых, теплых домах, не смотря на усиленную топку, чувствуется сильный холод! То и дело слышишь, что у того или у той развалилась лачужка, печка развалилась. Есть даже такие у некоторых кружки в окнах, разбиты и заменены бумагою! Сегодня была у нас обладательница этой обители… Что это за страшное было зрелище! У этой бедной женщины замерзли ноги. Она вся тряслась от холода… Господи! И какая пропасть этих бедных людей!... То и дело слышишь, что там от холода чуть не замерзли, там от голода чуть не подохли… И этак всю жизнь – от колыбели и до могилы!... Сегодня, например, я услыхал от бывшей нашей горничной, Анюты. Бедная, она умирает (кажется, брюшной тиф)! И так рано, да еще при таких страшных условиях! Вся изба с внутренней стороны – в снегу. Топить нечем, нет хлеба, нет чаю и сахару!... Ни доктора, ни фельдшера! А она, бедная, вся закоченелая, лежит почти без призору! Ее маленький ребенок лежит при смерти: его, бедного, душит опухоль глотки!... И какую массу наслушался (видеть все эти гадости нет никакой нравственной силы) я тут таких безобразных историй!... Однако, до чего, значит, я огрубел, живя здесь, что такие страшные картины не возмущают меня, не заставляют моего сердца жалостно сжиматься, болеть по «меньшему брату»… Я уже привык к этим картинам и спокойно смотрю на них, как будто это вещь «необходимая», «обязательная»… То ли было в Питере!... Там каждый пустяк – сравнительно с этим – какой-нибудь арест, обыск до глубины души возмущали сердце, заставляли энергичнее работать твой ум!... Как-то отзывчивости там больше было… Правда, там жизнь мы знали меньше, мы были плохие практики, но зато мы были честные идеалисты. Нравственной чистоты в нас было больше, чем теперь есть… Да, много значит жить «один на один», в «чужом обществе»… Это пошлое, сытое довольство притупляет чуткость нервов, отсутствие честных, хороших людей, заставляет глохнуть честные порывы, которые только что зародились в слабом, бесхарактерном человеке… Конечно, человеку с сильной волей робеть нечего… Его никакая среда не заест. Но в том-то и беда, что таких-то сильных натур у нас очень мало!... Большинство нас – люди бесхарактерные, слабые…
8 часов вечера.
20.12. (01.01.) 1888 г.
Сегодня закончились заседания окружного суда. По окончании 3-го дела был прочитан обвинительный приговор в окончательной форме всем прежде обвиненным в эту сессию. Перед глазами продефилировали и убийцы, и грабители, и разбойники, и крупные, и мелкие воры… Ужасно неприятную картину представляла эта большая толпа серых халатов, окруженная конвойными солдатами!... Большинство из осужденных – люди уже бывалые, уже искусившиеся на этой дороге… Некоторые из них ранее уже раза по четыре судимые. Один даже был сослан в Сибирь, но от туда бежал (последний, по своему прошлому, по своей ловкости, по характеру, представляет очень большой интерес). Преступления были разные. Кража лошадей, кража с взломом, разбойническое отнятие денег, убийство, покушение на убийство, ограбление церкви, грабеж! Большинство преступников – крестьяне, народ молодой (от 19 до 40 лет). Что заставило их сойти с истинного пути и пойти по страшной дороге преступлений – не особенно трудно сказать. Это – «мрак непросвещения». Большинство этих людей, как я уже сказал, ранее несколько раз сидело. А сиденье в тюрьме оказывает очень плохую услугу таким людям. Тюрьма не исправляет дурные человеческие качества, а наоборот, убивает даже и те последние зародыши «добрых чувств», которые еще по какой-либо причине уцелели в человеке. Она притупляет в человеке чувство стыда (совестливости), чувство жалости, чувство благородности. Она прививает ему особую специально тюремную нравственность. Для людей тюрьмы ничего не значит погубить совершенно невиновного человека во имя дружбы (товарищеской), в тюрьме есть свой (тюремный) суд, есть свои законы. Трудно добиться в тюрьме искренности от людей тюрьмы! Мне сейчас припомнилось физиономия, очень симпатичная, одного осужденного. В первый раз он попал на скамью подсудимых в 16 лет. Его посадили. Выйдя оттуда, он сделал преступление более крупное. Тюрьма с радостью приняла его опять и преподала ему еще много новых (очень важных для такого рода людей) уроков. Отшлифованный вышел он из нее и начал опять творить преступления. Теперь ему 22 года. Судится он в 4 раза. Его опять ждет тюрьма. Конец его истории таков: тюрьма, ссылка, каторга. Надежды на исправление очень мало… А, ведь, сложись обстоятельства иначе, из него бы, пожалуй, вышел и иной человек. Вот Калинин, например, есть дальнейший тип, созданный и выращенный тюрьмой, этого 16-летнего юноши. Уж этому человеку нипочем оклеветать человека, а при удобном случае и укокошить (тем более, он обладает громадною физической силой). Ему, например, не стоило большого труда убежать из Сибири. Не составило для него большого, как физического, так и нравственного, труда по прибытии из Сибири, ограбить церковь. Наверное, он через год будет опять в наших краях (недаром он со всеми своими товарищами хвастался, что долго не уживутся там – в ссылке. Попадется под горячую руку ему человек, целая семья, он укокошит их (он не остановится даже и перед детишками). Так и придется ему закончить жизнь или на каторге, в рудниках, или в какой-нибудь «Якутской тайге», скрываясь от холода и голода… И умрет он, ни кем не оплаканный, никому не известный бродяга!... Даже не будет и похоронен, а так на дороге и сгниет! Печален конец!... А ведь, чтобы могло выйти из этой сильной, могучей личности, будь другие обстоятельства! Не у каждого хватит настолько энергии, выдержки характера, как у этого человека!... Да и умом его бог не обидел… И, как подумаешь на что эта могучая сила, в какую сторону направлен ум, так тяжело становиться, что и выразить трудно!... Конечно, Сибирь его не исправит (да она и никого не исправит)… Но, как же быть иначе? Ведь, оставить такого человека на свободе страшно… Сейчас же является и другой вопрос: хорошо, мы избавимся от него, сошлем его в Сибирь. Да, ведь, в Сибири-то так же люди живут. За что же мы их-то будем подвергать под опасности… Страшно и трудно решить этот вопрос.
7 ч. вечера.
22.12. (05.01.) 1888 г.
Через 2 дня придет Рождество. Знаю, будет такая же морозная ночь. Так же будет хрустеть снег под ногами, когда я со всей семьей пойду к утрене в Соборную церковь, на колокольне, на которой так же медлительно, торжественно будет звучать колокол!... Все вообще, будет то же, только не будет того настроения, которое я испытывал тогда, лет 10-12 тому назад! Теперь Рождество - те же будни, то же сопряженные с какой-то бестолковой сутолокой, с докучными, никому ненужными визитами, с закусками, с выпивками. Для кого-нибудь все эти приправы составляют праздничную обстановку, а для меня теперь – это излишняя трата и… только… А, ведь, вот 10 лет тому назад я так не думал! С каким нетерпением я, бывало, ждал этот милый праздник! Как радостно билось сердце при первом ударе соборного колокола! Какие грезы навевала на меня эта рождественская ночь! А теперь… Ничего этого нет!... Уж и не знаю почему – может быть, потому, что все прошлое всегда рисуется нам в более хороших красках, чем настоящее – как это? «Что имеем – не храним, потеряем – плачем», но только это прошлое мне теперь очень жаль тогда как-то и жилось проще, искреннее. Да не приходилось испытывать разочарований – веры как-то больше тогда было – может быть, и бог-то тогда не был так велик и могуч, как он теперь, но все-таки веры было больше. У меня нет стремления к старому прошлому, но мне жаль, очень жаль это прошлое, не смотря на это, все-таки, если бы сейчас явился какой-нибудь маг и чародей, и спросил – чего я желаю – бессознательной веры, без всяких бурь и гроз, без горьких разочарований, без волнений, без борьбы отчаяния и надежды или сознательной веры, но с горькими утратами, сомнениями, разочарованиями – я бы выбрал последнее… «Только бы полною грудью дышать!», как говорит поэт. Конечно, меня не волнует теперь так сильно, как прежде, первый удар соборного колокола, не волнует и ожидание этого милого праздника, но у меня теперь ест другие предметы, волнующие меня, быть может, в большей даже степени, чем это бывало ранее… Меня теперь волнует истинная жизнь, а не призраки…
Сегодня у моей мамы перебывало много униженных и обиженных», приходивших просить к празднику… Вот только это явление и разнообразит несколько нашу будничную жизнь… Внешне сознаешь, что в людях еще не погасла «искра божья»… Люблю я кануны этих великих праздников за то, именно, что человечество в эти дни хоть на один час, на один миг становиться близко друг к другу. Если уж нельзя назвать в это время людей братьями, то все-таки родственниками – то можно назвать… В канун таких великих дней размягчаются на миг почти все людские сердца… Хоть на миг люди забывают вражду, смотрят добрыми глазами на всех. Ну, разве, правда, неприятно знать, что есть такие дни, в которые большинство людей «забывает на миг свои муки», хоть один день, один час пользуется довольством, счастьем, душевным спокойствием!... Жаль только, что не часто такие дни приходят!
23.12. (04.01.) 1888 г.
Мой приятель говорил мне: «Прислушивайтесь к стройному, почти неудержимому течению жизни и будьте живы, а не мертвы»… Ну, а что делать, если у человека, при всем его страстном желании прислушиваться, нет этой способности? Должно быть, надо эти слова понимать так – прислушивайся каждый, насколько можешь… Ну, а если стройности-то нет? Ищи ее! Я со своими слабыми способностями, тоже вздумал прислушиваться. В настоящее время, я удален от настоящей жизни трудовой, осмысленной. Окружающие близко меня люди – народ все же трудовой, народ, живущий «трудами рук чужих людей». Вся их жизнь (а так же и моя) основана на эксплуатации других людей. Интересы наши совершенно противоположны интересам трудящихся людей, поэтому самому мы (значит, и я) не сможем вполне ясно понять «настоящую жизнь»… Присматриваясь к этому кругу людей, замечаешь отсутствие сильных характеров, отсутствие сильной воли. Постоянное довольство, понятно, действуешь самым безобразным образом на человека. Она расслабляет его… Не замечал я среди этого класса людей особенно сильной выносливости, не обладают также эти люди христианской терпимостью. Совершенную противоположность представляют люди, истинно трудящиеся. Вспомнил я, например, сейчас 2-х своих знакомых (старика и старуху)… Я еще ни разу не видел такого долготерпения, такой любви к людям, как это выразилось у этих стариков. Не смотря на все испытания судьбы, люди эти шли безропотною своей дорогой, никого не беспокоя своими страданиями. И когда судьба посылала им небольшие, пустяковые облегчения, они довольствовались этим малым… Конечно, больше всего в такой стойкости их управляла вера в бога… Но, все-таки, нужно обладать большими нравственными силами, чтобы спокойно идти с этим тернистым путем. Что люди эти богаты и силою вышли, и энергией, показывают все те страшные преступления, на которые люди такого рода решаются идти (если забыть на время преступность самого факта, потому что эта сторона факта зависит исключительно от социально-бытовых условий). Полюбит ли человек страстно кого, возненавидит ли кого, он готов на все, ради исполнения своих желаний. Взять даже интеллигентную среду, и там человек, прошедший настоящую трудовую школу жизни, всегда будет и выносливее, и энергичнее человека, которому не приходилось бороться за возможность жизни. Борьба закаляет человека. Где больше дряблости, где наступают частые разочарования? В кругу людей сытых, довольных. У этих людей даже на самые мелочные фанты не хватает часто силы воли. Часто является трусость верным спутником этих людей. Но, как часто близость такого рода положение губительно действует на людей, истинно трудящихся. Легкая нажива, беспечальное житье – все это соблазняет часто людей, проводящих всю жизнь за каторжным трудом. Является у этих людей желание жить «как люди живут». К людям этим прививаются привычки, стремления довольных людей. Очень часто невозможность удовлетворить эти вновь народившиеся стремления заставляют людей этого круга идти на преступления…(текст отсутствует).
…сильное так, что человек сейчас же мог встать и продолжать путь!). Вышла задержка на жизненном пути… Надо теперь наверстывать потраченное время!... А пора, пора выйти на старую дорогу, на дорогу честной мысли, честного труда!... Итак ставлю над тем прошлым (невозвратным прошлым) крест… Впрочем, нет, погожу! Окину своим взором в последний раз мое недавнее прошлое… Начало было хорошо: труд честный, разумный труд… Потом маленькая усталость, соединенная с отсутствием возбудителей силы, энергии. Западающая «среда» со своею тоской, скукой, в силу вечности, «ничегонеделанья», вечной жизни «на чужой счет», «за чужой спиной», отсутствия общественных интересов. Это вечное «довольство» как-то заглушает чувствительность нерв, делает человека флегматичным, глухим к чужому горю… Впрочем, не все же темные картины рисуются воображению! Есть и искорки живого огня. Вечная тоска самодовольства (а отчасти, конечно, и человеческая совесть) заставляет людей «одумываться». Является желание, жажда быть умным, развитым, является привязанность к книге, к газете, журналу, школе. Добрая по своему существу человеческая натура и под толстой корой грубого эгоизма проявляет себя в различных фактах жизни. Там умирающей бедной девушке подают руку помощи, там хлопочут за слабого, больного старика, там содержат беспомощную старуху на свой счет и т.д. И много-таки таких фактов наберется в повседневной жизни… Это даст возможность не отчаиваться в более хорошем будущем для всего человечества… Судьба, как нарочно, дает мне испробовать жизнь во всех видах. Из среды идеалистов, мечтателей, честных, хороших фантазеров, честных тружеников во имя народного блага. Жизнь кинула меня в среду людей обыкновенных, живущих больше жизнью личною, без всяких утопий и фантазий… А теперь она бросила меня в новый мир, мир рабства, мир грубого насилия (главным образом, нравственного, а отчасти и физического)… Я не знаю ни одной такой среды, где бы имелось столько шансов на гибель самых лучших сторон человеческого достоинства, как в солдатчине. «Не рассуждай! Повинуйся!». Будь умен настолько, насколько это нужно для строгого соблюдения дисциплины. Нравственность здесь ограничивается строгими рамками той же самой дисциплины… Все здесь построено на подавлении в человеке личности и развитии рабских чувств… Я хорошо понимаю теперь положение того солдатика – еврея (новобранца), который вот уже 1 ½ месяца, как отказался от солдатской пищи и истощил себя черт знает до какой степени. Этот бедный человек мечтал мирно жить в своем маленьком польском уголке. Всецело отдаться изучению Талмуда и других священных книг, чтобы потом сделаться раввином, принести на землю правду, осветить людей светом истины. Может ли быть назначение выше учительского? Спят добрые семерии. Это такое святое, великое дело!... И вдруг, такого-то человека берут из его мирного уголка, отрывают от дорогих его сердцу занятий и увозят далеко от родины, родной семьи, дорогих книг и бросают в грязную, шумную казарму, в которой его бьют, заставляют выкинуть из головы дорогие его сердцу мысли. Стараются вымуштровать его. Его заставляют идти против законов своего бога… Он, насколько есть силы, борется с этим гнетом… Как он измучился в этой борьбе, это можно видеть по его лицу страшно худому и бледному, с большими черными (ярко горящими) глазами. В будущем ему мало хорошего предстоит: или смерть с голоду, или порка, или ссылка в Сибирь, если, конечно, он не сдастся… Ведь, тяжело жить в такой обстановке, где начальствующие люди, более или менее интеллигентные (и даже очень добродушные) признают вполне естественным битье для такого человека. И одно только пугает таких людей, что «он» «сдохнет» под ударами. Даже сами рабы признают это вполне законным и естественным. Впрочем, эти-то люди «не ведают то, что творят». Мало нашлось таких, которые возмутились такими словами начальников.
– «За что ж его так-то» – говорит один солдатик – «Ведь, вот мы, на что уж темный народ, а и то не стоит так поступать, а, ведь, он еще темнее!». «Нет, ты его вразуми, а не бей!»…
Однако довольно.
30.01. (11.01.) 1889 г.
Опять возвращаюсь к старой истории! Эта личность начинает меня очень заинтересовывать. Я еще до сих пор не могу хорошенько разгадать ее. Трудно допустить, что бы до сих пор человек этот мог фальшивить, да притом так нехорошо фальшивить? Ведь я прямо сказал этому человеку, что я не могу его любить, да даже и не должен его любить, да он сам сознался, что настоящее чувство ни больше, ни меньше, как увлечение, которое со временем пройдет, что надо постараться поскорее вырвать это чувство… И, не смотря на все это, человек этот никак не может «забыть все прошлое»… Сколько мучений, сколько страданий приносят этому человеку все эти мысли «о прошлом»! Ведь не может же быть, чтобы тут говорило уязвленное самолюбие, нет, чувство тут, кажется, глубже. Ведь, не может же человек ради удовлетворения только своего личного самолюбия идти на уничтожение человеческого достоинства, не может же он коренным образом изменять свои взгляды и убеждения, совершенно противоречащие его самолюбию. Да, чужая душа – потемки! Ну, мог ли я предположить в Х. искренность? А оказывается, что это чувство существует у него. Ведь, не станет же человек неискренний рассказывать о своих неудачах постороннему человеку (и человеку несколько даже враждебному ему). А он сделал это, он не постыдился унизить себя некоторым образом в глазах постороннего… Оказывается, какую массу страданий пришлось перенести ему благодаря моему неверию!... Мне совестно теперь сознавать свою несправедливость по отношению к Х… Конечно, теперь я постараюсь загладить свою вину. Этот случай послужит мне уроком впредь быть искреннее со всеми людьми, или видеть во всех людях – человека. А, ведь, вся это история может послужить прекрасною темою для романа: борьба страстей, психологическая сторона может быть разработана здесь прекрасно. Светская красавица-дама, не особенно образованная, пустая, воспитанная в теплице для услаждения таких же пустых мужчин. Молодой студент, с благими намерениями, слабый, бесхарактерный, но храбрый, волею судеб затертый в глухую провинцию и подвергшийся уже некоторым образом влиянию окружающей среды, но, впрочем, не потерявший еще человеческого образа. Судьба сталкивает этих людей, прежде всего в столице, где студент за своими занятиями, за своим товариществом, совершенно не замечает эту особу, точно так же, как она не замечает его. Судьба бросает их потом в глухую провинцию, где уж и условия жизни не так, да и обстановка, при которой они встречаются совершенно другая. Появляется увлечение, но долг чести заставил этого студента бежать от «личного счастья». Такое сопротивление в красавице возбуждает сначала досаду, самолюбие уязвляется, появляется желание, во что бы то ни стало добиться своего. Это чувство скоро переходит в увлечение. Это чувство скоро вызывает ряд новых ощущений, новых мыслей. Все «добрые чувства», до сих пор крепко спавшие, понемногу начинают просыпаться. Появляется желание изведать новые ощущения, новые чувства. «Совесть начинает запевать свою песню»… и т. д.
31.01. (12.01.) 1889 г.
Хотелось мне поговорить еще немножко о солдатчине, но это, кажется, придется оставить до другого раза. Что нового за это время я мог уловить в окружающей жизни! Мало, собственно, отрадного!... Окружающая меня среда представляет явление очень печальное: столько неразвитости, столько забитости мне уж давно не приходилось видеть! Конечно, нельзя винить за это окружающих людей: вся обстановка окружающая действует самым гадким образом на этих людей… Есть, например, здесь люди, которые уже 3-4 года служат и не знают, как зовут Государя. А уж о вещах более сложного характера, как, например, воинский устав – и говорить нечего. В силу забитости этих людей трудно бывает разгадать их внутренний мир… Замечательною для меня показалось та сторона их характера, в которой, выражается их отношение к казарме, к службе, к начальству. За малым исключением, все солдаты тяготятся военной службой и с нетерпением ждут того времени, когда можно будет покинуть это гадкое место, уйти на родину, в семью, к прежним своим занятиям. Таким образом, выходит, что военная служба не затирает уж так сильно человека, что он забывает свою родину, забывает свои прежние занятия. Этого «солдафонства», о котором всегда так много говорят, по-моему, очень мало в окружающих меня людях. Все простые рядовики прямо-таки ненавидят службу и всячески стараются от нее избавиться. О чувстве «долга», «чести» (военной, конечно) тут не может быть и речи. Все бы эти люди с удовольствием побросали все эти сумки, винтовки и прочие штуки, и ушли бы в свои Палестины, за свои занятия… Одно их останавливает – это страх военного суда. Кстати, и «долг». Мне недавно пришлось слышать целую теорию «воровства» от одного офицера. Он мне сообщил, что чем выше чин, тем больше он имеет возможности воровать, что он и делает. «Воробья – говорит он – велено накормить и на это дается начальнику 3 зерна, а он дает воробью всего 2, предлагая искать 3-е, где хочет». «И на этом держится весь свет» – закончил он. Оно, ведь, как будто и так. Фельдфебель отнимает у солдат, ротный у целой роты. Батальонный старается выжать у целого батальона и т.д. Даже самые меньшие чины солдатские стараются чем-нибудь поживиться с солдата (то заставит угостить себя чаем, то водкой, то заставит что-нибудь сделать для себя, и т.д.). И все бедный солдат отдувается. Его мучают и занятиями и работами, и караулами… Его и бьют под шумок (полковой командир сказал, что теперь уж кулак в ход пускать опасно, так как появились разные Гаршины в полках, которые могут вывести всех на свежую воду). Его, бедного, часто заставляют голодать (да даже часто испытывают хронический голод)… А кому хуже всего приходится в бою? Ему же. Кто меньше всех пользуется жизненными благами? Он же…
6.02. (18.02.) 1889 г.
Вчера мы что-то разговорились о центрах просвещения, и мне припомнились люди, населяющие эти центры. То есть, нас собственно интересовал интеллигентный класс этого населения – студенчество… И вот, в моей памяти начали вставать лица, так недавно еще виденные, стали вспоминаться речи, услышанные там, их взгляды на окружающие предметы, и т.п. Как живой сейчас стоит перед моими глазами В-кий, этот колосс, в грязной, разорванной куртке, таких же штанах, с лохматыми волосами, вечно нечесаными. Не бывает дня, чтобы человек этот не был пьян… Сколько раз ему приходилось сидеть в кутузке! Сколько раз тело его, упитанное алкоголем, подвергалось не особенно вежливым ласкам господ дворников и городовых, в то время как его расходившаяся натура требовала «свободы!... В общем, человек этот был все-таки очень странный… Во всем так часто высокогуманные порывы перемешивались с очень некрасивыми поступками. Часто на него нападало раскаяние, и тогда он страстно желал исправиться… Все его «излияния» были очень искренни. Он никогда не рисовался. Душа его лежала всегда все-таки ко всему порядочному, хотя активное участие он редко принимал в том «хорошем» (как я говорил, он часто делал совершенно противоположное). Некоторые студенты «из хороших», желая «вытянуть» его из затягивающего болота, начали было на него «воздействовать», но из этого ничего не вышло. Они огорченные от него отошли, но, кроме жалости, ничего к нему не чувствовали (о презрении, отвращении, ненависти тут не могло быть и речи). Душа его часто вырывалась на «чистый воздух». Так, помню, во время студенческих беспорядков (о рождестве), он принял в них участие. Принял он участие так же и в том случае, когда их факультет хотел устроить демонстрацию нелюбимому профессору. Вообще, он почти всегда стоял против произвола, насилия своего начальства. И это отстаивание очень часто доходило у него до смешного (столкновения, например, с «субчиками»). Были из этого же сорта людей и совершенно безличные личности. Так, помню, К-ва (кандидат математических наук). Он зачем-то вздумал побыть на другом факультете. Это была совершенно неразвитая «безличная» личность (мы все удивлялись, как только он мог понять на математическом факультете). Вся его жизнь проходила, кажется, только в кутежах и попойках. Оригинальность его характера совершенно-таки ни в чем не проглядывала.
От этой крайности я хочу перейти к другой, очень симпатичной. Возьму, прежде всего, Митьку. Это был очень симпатичный парень. Он происходил из бедной семьи. На своей собственной шкуре испытал, что значит быть бедным. Он стал отыскивать причины бедности (делал это он не из простого любопытства, а из любви к своим братьям беднякам). И решив по своему этот вопрос (очень, может быть, что решение это было, не вполне удовлетворительно, так как, в жару увлечения человек мог многое присмотреть, пробросить, забыть), он стал применять со всей страстью это решение к жизни. Он страстно ненавидел богатство, богатых людей, да и обще всех тех людей, которые, по его мнению, приносили вред и страдания народу. Эта ненависть не имела у него пределов. Мне в этом человеке нравилось больше всего энергия, с какою он преследовал свои убеждения. Но мне очень не нравилась узость его убеждений. Эта узость оттолкнула от него, конечно, многих очень симпатичных людей, которые не могли согласиться с ним в способе разрешения общественных вопросов, то есть, иными словами «не были за него», а это, по его убеждению было равносильно «идти против всего»… А как часто узость взгляда вредит делу, за которое человек стоит! Видеть это можно на том же самом примере. Будь этот самый Митька, а с ним и П-убов – личность, составляющее одно целое с М., будь они несколько больше развиты, они сознавали бы, что «не одна только дорога ведет в Рим». Они не забрались бы в свою скорлупу, они бы напротив, сближались с людьми, и, наверное, собрали бы вокруг себя немало хороших людей. А теперь они почти, что одиноки… Хорошо, конечно, еще, что люди-то эти сами по себе народ несчастный, трудовой, для которых слова не пустые звуки, а дело… А, ведь, есть много из этого сорта «узколобых» людей – людей слова, и людей, которые дальше своего носа ничего не видят и все, что совершается дальше их носа, ими не признается за справедливое. Конечно, часто происходит это не от неискренности, нечестности, а от неразвитости, от чрезвычайной увлекательности натуры (состряпает себе человек дельце и до того этим увлекается, что за этим забывает все и доходит даже до того, что выше и полезнее этого дела ничего не признает). Я припоминаю, например, сейчас весь кружок этого Митьки. Прежде всего, надо сказать, что народ это большую частью не развитый. В силу их «узости», они и сближаются только с такими людьми, которые так же «узки», как и они сами. Не знаю, много ли они принесут пользы при таком их умственном багаже, да и при той сильной степени самообольщения, какою они обладают. Боюсь даже, как бы ни вышло из этого дела чего-либо плохого (потому, что ей богу, не знаю, что-то можно сделать без всяких знаний, без всякого основательного фундамента). К счастью, кажется, класс этих «узколобых» у нас постепенно уменьшается. Замечательна еще черта этих людей – это пренебрежение к людям, стремящимся сначала накопить побольше знаний. Однако, довольно об этом типе, поговорю еще и о других типах. Впрочем, это я, пожалуй, оставлю до другого раза, так как самый интересный и симпатичный тип занял бы немало страниц моих тетрадок, а времени уж много, так что я оставляю это до следующего раза. Не забыть бы записать: еврей-новобранец стал принимать солдатскую пищу и стал усердно заниматься военными науками, так что, начальник на него не нарадуется. Что его заставило перемениться, вполне точно неизвестно. Знакомый офицер передавал мне, что на него сильно повлияли убеждения раввина. Может быть и это, а может быть, на этом факте в миллионный раз подтвердилась верность известного изречения «сила солому ломит». Не знаю, записывал ли в свои тетрадки что-либо о Быльеве. Да и среди нас, военных, есть порочные люди. Быльев этот маленький, хитрый, рябой, с живыми глазками, с очень подвижной физиономией, обвинялся в краже полотенца. Хотя уличающих вину обстоятельств было очень мало, но его все-таки обвинили, перевели в разряд штрафованных, и посадили на гауптвахту.
P.S. К характеристике солдат. Недавние факты измывательства фельдфебеля и дядек над солдатами показали мне, как долготерпелив наш русский человек, и как еще низок уровень его общественного развития. Трудно ждать от солдат протестов. Печально еще то, что среди солдат сильно развито подхалимство, неискренность. Хотя все это, конечно, вполне объяснимо опять-таки тою же всепожирающею дисциплиною.
10 часов вечера.
7.02. (19.02.) 1889 г.
Сегодня я дал Каданцеву несколько книжек («Кавказский пленник», «Севастопольский мальчик», «Иван Воин»)… Как он был доволен этим подарком! Он весь просиял… Я ему еще раньше давал «Кавказского пленника». Книжка эта ему очень понравилась. «Понятно уж больно!» – говорил он. «Кавказский пленник» понравился и моему дядьке. И замечательно то, что более всего ему понравилось тоже «понятливость» изложения. Каданцев – один из лучших учеников нашей ротной школы. Он очень интересный парень. С виду он кажется очень суровым, мрачным, но на самом деле я, ни одного еще солдата не видел веселее его. Да, в их-то глазах он иным и не может быть. Пока он не живет в казарме, а живет на вольной квартире (а это много, очень много значит!). Да, если он и будет жить в казарме (хотя это случается очень редко), так все-таки многие привилегии, которые ему даются, сильно отличают его от простых рядовых. Начальствующие чины (от мала до велика) относятся к нему не как к подчиненному, а как к равному или же, как и к подчиненному, но эти отношения облечены в довольно деликатную форму… Уж одно это отношение ставит вольноопределяющегося очень далеко от простого рядовика. Начиная с поручика и кончая унтер-офицером, все видаются с ним за руку, а ведь, это в глазах рядового много значит! Потом отдаляет вольноопределяющегося и большое различие в умственном развитии. Все это невольно заставляет относиться к вольноопределяющимся, как к «господам», так как большею частью они и правда, выходят из «господ», так что кличка «барин» уже вполне ими присвоена. А уж, коль скоро вольноопределяющийся «барин», он уже не может быть другим, товарищем простого мужика, он может быть «добрым барином», «хорошим барином», но, во всяком случае «барином», а не товарищем. А значит, и не все он перед ним выскажет, не раскроет душу. Во многих случаях он будет очень, очень скрытен. Ну-с, теперь я поговорю о сантиментах. Смешно, право, а все-таки приходится признаться, что я сентиментален. Ведь, кажется, чего больше? Все выяснено между нами, все кончено, а меня, вдруг начинает «щемить» в сердце. И странно, ведь, тогда не щемило, а теперь, когда все почти кончено, защемило! Чем это объяснить? Эгоизмом? Как это? «Сама собака на сене сидит, сама не ест и другим не дает». Или, как это? Что имеем, не храним, потеряем – плачем»… Но не все ли это равно! Нет, правда, чем это объяснить? Нет слов, он стал мне теперь симпатичнее. Мне его жаль, но тут, ведь, еще очень далеко до «щемления» сердечного? Да, наконец, может ли оно и быть? Ведь, любить такого человека не могу, да и не должен (а все-таки щемит!)… Впрочем, это «минутный порыв»… Он пройдет и все станет по-прежнему…
7 часов вечера.
8.02. (20.02.) 1889 г.
Буду продолжать свои воспоминания… Маленькая комнатка, тускло освещенная кривою лампою с абажуром своего собственного изделия… Тоненьким голоском ведет свою песенку маленький самоварчик, от дряхлости лет, покосившийся на бок. Вся наша компания в сборе. Маленький Сережа важно развалился в вольтеровском кресле (с подранным сиденьем и спинкой). Его умная, большая голова несколько склонилась на сторону. Прищуренные глазки устремились куда-то вдаль. Это его обычная физиономия он всегда о чем-то думает, «неземном». Тут же, около него помещается и Толя. Он обыкновенно заседал на кровати. Его объемистая серая блуза облегает плотно его могучее тело. Он держит в руках какую-то книгу и ведет оживленный спор с Васей. Его умные глаза вооруженные очками быстро бегают от одного предмета к другому. От всей его внешности веет такой простотой, таким добродушием, которые сразу располагают человека на откровенности с ним, в тоже время заставляет человека уважать его за его знания, за силу… Вот Вася – тот только располагает к дружбе, к товариществу. В его обществе человек чувствует себя совсем как дома. Если есть, какое личное «дело», то его, скорее всего, откроет именно Васе, а не кому-нибудь другому. Можно бы было сказать и Толе, но как-то «душа не налегает». Уж слишком далек он от «личных интересов», слишком уж слабо развито его личное «я»… Вася вечно улыбается любовною, дружеской улыбкой, вызывающей на откровенность. Тут же помещаюсь обыкновенно и я, а около меня и Марк. Это добродушнейшее существо в мире… Сколько раз мы подтрунивали над Марком, и он всегда великодушно прощал… Странная вещь! Все мы очень любили Марка, и в тоже время все, как-то невольно, подтрунивали над ним! Нам самим в минуты раздумья доставляло это много горя, но в тоже же время, не могли избавиться от этой дурной привычки… Ведь, есть же такие натуры, очень милые, симпатичные, которые всю жизнь иногда принуждены, бывают терпеть подтрунивания (подчас очень злые)! Уж и не знаю, как объяснить это! Незлобивостью ли, слишком большою, некоторыми ли привычками странными и смешными, или какими другими причинами (я сейчас вспомнил один случай. Нам пришлось вместе быть с Марком в Тамбове у сестры. Он и там произвел на всех очень хорошее впечатление, но и там ему не пришлось избежать подтруниваний).
И так вся наша компания была в сборе. Мы отдыхали (только что пришли из публичной библиотеки) от занятий… За чаепитиями у нас обыкновенно происходил живой обмен мыслей. Часто по вечерам у нас бывали и гости. Чего только не затрагивали мы на этих вечерах! Я особенно любил беседовать с Сережей. Любимой нашей темой была история и социология. Сережина голова представляла большой склад исторических и социологических данных. И притом, не в виде какого-нибудь сырого материала, а, соединенных, освещенных одной мыслью, исследований… Я почерпал от него много важных данных, много хороших, светлых мыслей… хорошо было также беседовать с Толей. По богатству и всесторонности знания, по богатству жизненного опыта, мне мало приходилось знать таких людей… Я как-нибудь после расскажу всю его жизнь – это просто-таки замечательный человек! Замечательная черта характера была у него! Он как-то так умел делиться с вами своими знаниями, что вы как-то и не чувствовали над собой его превосходства. Он говорил с вами, как с другом, с товарищем, как с равным себе. Он не ….(текст отсутствует).
А отзывчивость-то на чужое горе? Как мне памятны те вечера, когда мне было «не по себе», как он умел облегчать накипевшее горе! Он особенно отзывчив был на это «не по себе» потому, что оно часто с ним самим случалось...
О, эти милые вечера, как много хорошего напоминают. Вера в идеал, стремление к истине, к правде, любовь, великая, всеобщая любовь – все это было тогда!... И это были не пустые фразы, не «бред фантазии», нет, это была трезвая правда!... На ярлык, с которым носился человек, он глядел вглубь. Он старался познать «душу» человека. Он умел глубоко уважать мнение и убеждения другого человека... А такой громадной веры в людей, в правду, не приходилось еще никому видеть. Не приходилось мне так же видеть такой глубины характера. Если только человек этот в чем-нибудь убеждался, он отдавался вполне этому. Он забывал все окружающее, делался «не от мира сего»!... А какая у него была страстная жажда поиска идеала! А тут подоспело еще и разочарование в прежних планах... Долго он боролся с этим разочарованием. Сердце говорило одно, а ум совершенно другое... Ему стало вполне ясно, что прежние его планы – это мечта, быстро разлетающаяся при появлении первой действительности... И как не жаль ему прежних планов, на выработку которых ему пришлось столько перечувствовать и перестрадать, все-таки ему пришлось расстаться с ними... Впрочем, нет, он еще раз попытался осуществить свои планы. Накопив много практических знаний, он хотел пойти в народ... Он захотел изучить дело с практической стороны, а для этого ему нужно было пойти в рабочую среду... Он сделал это. Он сроднился с трудящимися людьми, он стал к ним «прислушиваться», к течению жизни среди этих людей... Его наблюдения еще больше убедили его в несостоятельности его прежних планов...
Я захотел сейчас сойти из мира воспоминаний к окружающему меня настоящему... Ах, как тут далеко до «стройности»... Как мало света в этом мире, как много духоты! Господи, как бы хотелось пролить свет в эту затхлую, темную среду... Но как это сделать? Да, много, очень много хорошего вспоминается с этими вечерами!... Вся окружающая обстановка действовала как-то оживляющим образом на человека! Она заставляла его забывать «свое личное я», помнить больше о других. Заставляла усиленно работать, готовить себя к новой миссии, к новому служению... С этими вечерами вспоминаются не одни только люди, но дела...
Вот 14 ноября... Большая толпа народа с обнаженными головами поют «Вечную память» тому «угасающему светильнику разума»... Вспоминается и еще многое, многое... Но пока довольно!...
10.02. (22.02) 1889 г.
Хотелось бы опять поговорить о «недавнем прошлом»... Но не слишком ли это часто? Не лучше ли поговорить о настоящем? Но, ведь, это настоящее очень, очень неинтересно. Ничего экстраординарного не случилось. Жизнь идет все одним и тем же порядком. День да ночь – сутки прочь! Ни новой яркой мысли, ни нового факта! Все так же и тоже... И так придется жить почти год! Но каково, же положение тех людей, которые проводят так не один, не два года, а целую жизнь! Впереди виден ему один труд! Прошлое его – тоже труд! Да притом труд не сознательный, труд плохо оплачиваемый, труд изнуряющий! Как ближе-то всмотришься, до чего тяжелое впечатление получается! Жить затем, чтобы трудиться. Да не осмысленно как-нибудь, трудиться затем, чтобы не умереть с голоду. Ни ярких впечатлений, ни новых мыслей! Жизнь – прозябание и больше ничего! Одно утешение в бесшабашном веселье, подчас очень гадком, грязном... Нет, на самом деле, положение очень гадкое...
Мне сейчас вспомнился один случай из судебной практики. Молодой (лет 28) парень, женатый, обвинялся в убийстве, непредумышленно произошедшем во время драки (на праздник Храмовый был устроен кулачный бой). Его приговорили на 1½ года арестантских работ.
Вспоминается еще случай. Старик – отец жаловался на двух взрослых своих сыновей, обвиняя их в нанесении ему побоев. И какая масса таких фактов может быть собрана! Света мало, света! Если бы у трудящихся масс было бы больше досуга, да больше средств к восприятию более широких интересов. Когда это будет то время, что не кабак и водка будут служить утехою трудящегося народа, а школы, библиотеки, да книжки! Поскорее бы приходило это времечко!... А знамение времени уже существует. Хорошая «лубочная» литература, как качественно, так и количественно растет. Теперь уже Пушкин стал вполне доступен народу, доступен и Л. Толстой, скоро станут доступны и Гоголь, и Лермонтов, и Григорович, и Тургенев, и многие другие выдающиеся писатели уже вошли в народные издания. Появились дешевые газеты (Свет и день), которые расходятся в большом количестве. Вся периодическая печать увеличивается, как качественно, так и количественно. Конечно, ей еще далеко до того, чтобы служить утехою в минуты отдыха рабочему человеку. Но все-таки уже и теперь часть рабочих пользуется ее услугами. Многие передовые рабочие, например, очень серьезно следят за внешней и внутренней политикой (особенно же, конечно, их интересует рабочий вопрос). Много моих знакомых приказчиков, сапожников выписывают «Свет» (правда, пища не особенно доброкачественная, но важно то, что явилось желание принимать пищу). Открываемые по разным городам библиотеки, бесплатные читальни, опять-таки доказывают, что класс людей, интересующихся книгой, растет (главное-то класс этот – не интеллигенты, а класс трудящейся рабочей массы). За последнее время мне пришлось, читая в газетах, узнать, что по многим городам открываются воскресные школы. Скоро такая школа откроется в Воронеже. Потом открылось несколько «театров для рабочих». В Воронеже организовался кружок любителей, желающих устроить народный спектакль. Интересно так же, что часто инициатива в таких случаях принадлежала самим же рабочим. Так в то же Воронеже организовался кружок любителей из железнодорожных рабочих. Кстати, вспомнить адрес рабочих Г. И. Успенскому. Конечно, все это – капля в море, но ведь и капля камень долбит.
8 часов вечера
11.02. (23.02) 1889 г.
В казарме у нас сегодня страшная суматоха: завтра ждут корпусного доктора. Пыль стояла столбом, когда я пришел в казарму. У каждой койки солдат набивал в мешок солому, чинил одеяло, вообще старался сделаться лучше, чем он на самом деле есть... Завтра, наверное, дело будет так: в 9 часов – явится этот доктор, пройдется по казарме, повидается с солдатами и уедет опять в Москву. Найдя, конечно, все в совершенном порядке, и поблагодарив командира за его старание и труды. Да, правда, что ему и находить-то там дурного? Ведь дышать тем воздухом, каким приходится дышать солдатам, ему не придется: к его приходу, наверное, постараются все комнаты проветрить, и, пожалуй, даже, какие-либо благовония воскурят. Но придется узнать ему справедливо и про солдатскую еду, потому, что, ведь, ему принесут самую лучшую порцию. Да еще и соврут, что солдату так много приходится пищевых веществ, что он положительно всего не использует. И т.д. и т.д., и подумаешь, зачем нужно было огород городить!... Тратить массу денег на этих корпусных (а, ведь, над ними есть еще, наверное, окружные и т.д.), когда от них пользы не на грамм нет. Только одно отягчение для солдат!... И как пристальнее всмотришься в жизнь, увидишь, что у нас весь мир на этом держится... До сих пор еще человечество не развивалось на столько, что бы понимать всю бесполезность такого строя. Недавно я прочитал статью Михайловского – «Бисмарк»... Ну, не смешно ли, и не грустно – человек не развитой (куда уж там говорить о гениальности!), не обладающий почти никакими талантами, какой-то смелостью. И этот человек держал (да и до сих пор держит) в своих руках чуть ли не весь мир. И больно-то то, что люди эти нагло ругаются почти над всеми человеческими правами, в то же время, не только живут, но и правят народами. Главный принцип этих людей: «Не в правде бог, а в силе»... и «Железо и кровь» - вот их сила, а значит и право. Их принципы губят человечество, которое, заражаясь от них, начинает верить в силу, как в право. Как глубоко мы не развиты, однако! До сих пор не понято самой простой истины, что жизнь нам дана совсем не за тем, что бы тратить ее бесцельно удовлетворение требований, а подчас и прихотей одной какой-то личности, признавшей почему-то себя, руководителем всего мира... Нет, человечеству, кажется, еще долго будет нужна палка, нужен будет капрал, который бы ими руководил!... Да, впрочем, и трудно ожидать чего-либо против уположенного.
Мне сейчас вспомнилось одна барышня А. Вся цель ее жизни... Да есть ли у нее цель? Живет она себе припеваючи, мало задумываясь о «страшных» вопросах. Она религиозна (иными словами ходит в церковь, ставит свечи, верит, что если этого не делать, то бог за это накажет и т.д.), критическая способность у ней не развита. Она верит, что мы для того и живем, чтобы веселиться и любить, чтобы на нас работали все, чтобы все мы вместе шли воевать, если прикажут (зачем надо убивать людей, да и можно ли их убивать – ей такие мысли и в голову не приходят. И т.д., и т.д.! она очень сентиментальна, постоянно мечтает о «нем». Кончит свою жизнь она, конечно, спокойно. Будет иметь много детей, которых, постарается воспитать так же, как была воспитана она сама. Впрочем, ей, пожалуй, придется пострадать, так как дети ее вряд ли будут похожи на нее. Ведь, жизнь идет все вперед и вперед и разлад между отцами и детьми существуют всегда. Мне эта барышня собственно вспомнилась по следующему случаю: с ней недавно случилось горе. Она потеряла навсегда того человека, которого прочила себе в супруги. Верила, верила бедняжка, что он сделает ей предложение... А он, дрянь этакая, возьми-поди, да и женился на другой! И это с ней уже второй такой случай. Не везет ей, бедняжке (впрочем, оно этого и нужно было ждать, потому, что мало привлекательного в ней: ее сестры по духу хоть красотой берут, а у нее ведь, и этого нет! Бедная! Но, впрочем, я уверен, что жизнь свою она кончит спокойно.
22.02. (06.03) 1889 г.
Давно-таки я ничего не записывал в свой дневник. Происходило это от того, что мне некогда было писать. Жизнь идет очень однообразно, довольно скучно, не давая никаких ярких картин... А, быть может, я плохой наблюдатель, не умеющий разбираться в жизненных моментах. Да оно, пожалуй, и так. Вот ведь, уж скоро два месяца, как я состою солдатом, толкаюсь среди общества «забитых людей», а я еще ни одного человека не разгадал из этой среды, я еще ни с кем не сблизился настолько, чтобы выслушать полное profession de foi каждого. Впрочем, поживем еще и узнаем! А до чего все-таки губит людей дисциплина, можно видеть хоть из того факта, как наш подпрапорщик беседовал со школьниками... «У каждого, говорит, человека совесть есть, которая приказывает вам делать то-то и то-то. Так как бы вы поступили в таком-то случае... Вы пока забудьте на время, что вы солдаты, забудьте дисциплину, и т.д. (хорошо это: для приказаний совести забыть дисциплину!) Хорош и этот самый подпрапорщик, толкующий о любви к врагам, о всеобщем братстве... До какого курьеза он был смешон в роли проповедника...
К характеристике воинского духа приведу слышанную мною одну легенду. В рай стучится 90-летняя старуха. На вопрос Петра она отвечает, что всю жизнь она оставалась девственницей. Петр ее не пустил в рай. Пошла старуха в сильном горе и забежала в одну корчму. В это время в корчму зашли плевнинские герои, убитые под Плевной. Они направлялись в рай. Сжалились они над старухой и забрали ее с собой... Петр распахнул перед ними двери настежь (как героям, павшим на войне, даже и святые отцы относятся с большим уважением). Вместе с героями вошла и старуха. Петр хотел ее задержать, но они заявили, что это их ротная... Петр ничего не мог возразить на такой аргумент и пропустил ее.
Возвращусь теперь к недавнему прошлому. Старый знакомый опять ставит меня в тупик. Я даже теперь теряюсь в догадках – на чьей стороне правда. С одной стороны прав как будто он, а с другой он выходил довольно ловкой личностью. Но неужто, же человек может так ловко играть (да, наконец, что за смысл?)... А ведь если нет, если правда человек страдает, мучается, борется, а в ответ на это видит только, или холодное молчание, или неискреннее сочувствие... Да как мне иначе и поступить? Открыть человеку новый путь, объяснить ему назначение человека? Но ведь он столько еще не развит, чтобы понять это, да и вся та жизненная обстановка, в которой ему пришлось расти, да и теперь находиться, настолько сильно пустила свои корни в его душу, что трудно, очень трудно будет исправить, выпрямить эту душу... Впрочем, что добрые задатки-то в этой душе существуют, в том, кажется, трудно сомневаться: все те добрые дела, сделанные им, говорят за это. Недавно, впрочем, я был опечален одним фактом. Я предложил ему устроить у себя в деревне, некоторым образом, склад народных изданий, но потерпел фиаско. Это меня до того разозлило, что я прямо-таки отказался от моего знакомого (более всего меня возмутил один из аргументов в возражении: что-то о нас будут говорить разные номера. Меня до такой степени возмутило здесь его (знакомого) грубое себялюбие, что я даже не подберу слова выразить этого. Ну, правда, не возмутительно ли это? На угощение знакомых, на доставление удовольствия себе и знакомым, наконец, на достижение своих личных целей, он способен делать черт знает какие затраты (ведь по всему видно, что он человек добрый. Он ни сколько не пожалеет, что бы на славу угостить товарища или знакомого. Он не пожалеет дать или проиграть знакомому много: денег и т.д.), а на общественные нужды, на оплату народу долга, у него оказывается очень мало средств (если он что-то и дает, то только за тем, чтобы отвязаться). Так точно потерпел я фиаско и с книжками... А вот, попроси эти самые деньги (максимум рублей 30) на какой-нибудь ужин с цыганками или еще на что другое, он с удовольствием даст. В его отговорки (что о нас будут говорить?), я не верю, так как в других случаях, когда цель у него симпатична, он не будет говорить о средствах, не будет говорить и об обществе... Чем бы это объяснить такое противоречие?... А, ведь интересный, в самом деле, этот человек. Если только он искренен, то тяжело, конечно, за него, а если все это время он только играл, то право, все-таки он довольно-таки энергичная личность, достойная кисти художника. Мне сейчас вспомнилась одна фраза этого человека, сказанная им как-то давно: «Если я чего захочу, так я добьюсь этого!»... уж не есть ли вся эта последующая история только верное доказательство его слов. Я сейчас сказал, что такой характер достоин кисти художника... Я, хотя и не художник, а имел, да и до сих пор имею смелость взяться за эту работу. Впрочем, быть может, в силу того обстоятельства, что я не художник, у меня ничего и не выходит... Даже как-то обидно, ей богу!
Много дум в голове, много в сердце огня... А в результате, пока нет тебе ничего... Собственно говоря, перед моими глазами носится очень много образов, которые требуют воплощения, но у меня не хватает силы, которая превратила бы их в «плоть и кровь»...
Мне, например, опять сейчас вспомнился тот старик, которого я неожиданно встретил на железной дороге, этот чистейший тип настоящего «пролетария»... Я ехал в первых числах октября домой. В вагоне нас было не особенно много: ехал приказчик какого-то гробовщика. Он развил целую теорию торговли гробами. Он был со своим добродушным, откровенным характером подчас очень даже смешон, да даже прямо-таки гадок... Болтовня его, наконец, уже надоела. Я начал уже дремать. К счастью, и сам собеседник захрапел. Остальные соседи (большинство были фабричные, ехавшие на родину к призыву) тоже начали дремать, так что говорить совсем не с кем было... Ночь спустилась на землю холодная, с пронзительным ветром, сильным, противным дождем... В вагоне стало свежо... Все дремавшие и спавшие пассажиры ежились и старались поплотнее укутаться в свои не особенно теплые хламиды... Тускло мигали в двух фонарях, с вспотевшими стеклами, два стеариновых огарка, и освещали почти совсем уже успокоившуюся публику... Я тоже задремал... но меня скоро разбудил звук дребезжащего колокольчика на какой-то маленькой станции, у которой медленно останавливался наш поезд... На платформе было почти пусто... Стоял только жандарм, да начальник станции, около которого в близком расстоянии находился какой-то маленький, худенький человечек и усиленно что-то кланялся.
– «Посадите этого старика в третий класс» - говорит начальник станции подошедшему к нему смотрителю.
– «Дай бог тебе, кормилец, доброго здоровья» – раздался дребезжащий старческий голос. И маленькая фигурка повалилась на каменный пол платформы, мокрой от лившего дождя... Всю эту картину тускло освещали четыре керосиновых фонаря. Маленькая фигурка, крестясь и бормоча что-то себе под нос (должно быть благодарности доброму начальнику), вошла в наш вагон... Раздался звонок, а потом свисток кондуктора и свисток локомотива. И поезд опять помчался вдаль... Старик (маленькая фигурка, стоявшая на платформе, оказалась стареньким, худеньким стариком, в тоненьком разодранном пальтишке, порыжевшем от долгого времени, от ветра и дождя. На спине у него был привязан мешок) дрожал от холода. Все его лицо, платье, было мокро. Дождевые капли еще кой-где висели на его седенькой всклокоченной бороде...
Ну. До другого раза!
23.02. (07.03) 1889 г.
Сегодня я был поставлен в очень неловкое положение. Занимались мы в школе повторением заповедей. Дошло дело до 6-й заповеди – спрашиваю я – «Убивать! – а как же ты-то даешь присягу в том, что будешь нещадно губить врагов отечества?». Солдат стал в тупик. Да и самому учителю стало ужасно трудно примерить не примеримое. Бог велел вообще не убивать людей, но он, же приказывает их на войне, наказывать убийством за панические преступления... Ну, разве это не противоречие? И подите, примирите его! Конечно, будь это сказано в другом месте и при других условиях, можно бы было, пожалуй, и разъяснить недоразумение, но в данном случае пришлось постараться поскорее замять эту беседу. Порешили, что в некоторых случаях закон божий допускает исключения... А мой ученик так даже сказал, что здесь убийство надо понимать в смысле убийство словом (А что ж? Он, пожалуй, последовательнее самих учителей церкви: если уж раз категорически заявляешь что, так старается проводить этот принцип всюду!)... Он даже добавил, что бог любит войну (мне опять припомнилась вчерашняя легенда). А ведь, правда, до чего несостоятельны наши учители церкви. Говорят, что убийство – зло, что за убийство бог будет карать и сейчас же прибавляют, что, не смотря все-таки на это, надо будет признать убийство в двух случаях законным, а именно: на войне и при казни... И так всегда: «надо согласиться, но нельзя не признаться»...
Однако буду продолжать начатый вчера рассказ...
Старик забился в темный уголок вагона. Все его худое тело продолжало дрожать (видно, долго-таки пришлось побыть ему под ветром и дождем!), а губы его по-пежнему продолжали что-то беззвучно шептать. Три пальца судорожно сжимались вместе. И старик, как бы бессознательно продолжал креститься... На глазах его, итак постоянно слезившихся от старости и холода, показалось еще несколько крупных слезинок – от радости или от горя? Трудно было объяснить. Вся эта история, вместе с главным ее героем ужасно заинтересовала меня, и я захотел поближе познакомиться со стариком.
– «Далеко ли едешь старик?», спрашиваю я его, походя к его темному углу. Он как-то испуганно съежился, что-то засуетился, потом встал со своего места, желая уступить его мне.
– «Ох, батюшка! Далеко, родименький! С самого Питера еду, а еду в Катеринслав! Да, в Катеринслав! У меня, ведь, там старушка живет, дети там (на глазах старика опять появились крупные слезинки)... Далеко, родимый барин, ехать, да бог не без милости! Нет, что ни говори, а бог обо мне не забывает. Ведь я чуть-чуть не помер с голоду, чуть от холода не околел, а вот нашелся добрый человек – станционный начальник – позволил сесть в вагон без билета, да еще на дорогу двугривенный дал. На, говорит, старик, да поезжай себе с богом. Недаром же ты, говорит, на железной дороге служил верой и правдою много лет. Должна же она чем-нибудь отблагодарить тебя! Вот он бог-то! А говорят, что он высоко... Нет, он туто!». – «А ты, что же, дедушка, на железной дороге служил что ли?».
– «Да родименький, привел бог много-таки на своем веку потрудиться... Тридцать лет я мосты-то по дорогам строил... Вот, небось, знаешь инженера-то... Ведь, нам с ним довелось работать! Доложу тебе, важный он барин был... Бывало, иногда приезжал это смотреть... Надо правду сказать, редко он бывал. Да зачем ему бывать-то? Он развел там разные планы, ну получил там, что следует – вот работа его и кончена». – «Зачем же ты, дедушка, в Питер-то ездил?».
– «Правду искать, родименький, правду!... Я уж во второй раз, родимый, езжу правду искать, да все никак ее не сыщу! Эх, да я уж об этом теперь и не думаю!... Мне бы только до дому бы добраться... Ведь у меня там старушка, дети – два сынка»... И на глазах старика опять появились слезы... «Они, мои голубчики, теперь и не знают где я!... Может, думают, что я уже помер»... И старик зарыдал. – «Да как же ты, дедушка, до дому-то добираешься?».
– «Да так вот. Больше Христовым именем... То пешком идешь, то добрый человек поможет, на лошади довезет, а то вот добрый начальник нашелся и на машине поехал... Все бы ничего, да вот одежонка плоха, да и сапожки худы. Ноги ломит, тело от холода дрожит, а тут кила-то мешает. Это значит, как был я на работах-то, так и получил ее там. Ну, проболел, мне от работы-то и отказали». Я всмотрелся попристальнее в этого человека и ужаснулся... Мне казалось, что человек этот вот сейчас умрет... И он-то прошел более 400 верст в таком костюме, в таких сапогах и такою болезнью. Да не имея за душой ни гроша!
– «Да сколько же тебе лет?». – «Ох, уже 60 лет перевалило!». Мне до того тяжело стало, что я не мог с ним говорить!... Господи, да зачем же это жить-то нужно... Тридцать лет проработать каторжным трудом. Заболеть от натуги и, в конце концов, умирать где-нибудь чуть ли не под забором, вдали от родных, дорогих сердцу людей!... Я еще раз посмотрел на этого старика... Его измученное тело изредка уже теперь вздрагивало, голова его клонилась на исхудавшую грудь... Я перестал его спрашивать, так как видел его утомление. На мое предложение выпить рюмочку водки он с удовольствием согласился. Попросил, и закусить (оказалось, он уже 2-й день еще не ел)... Он подложил под голову свой мешок и заснул крепким сном. В вагоне водворилась полная тишина... Слышался только богатырский храп приказчика гробовщика, да изредка раздавались неясные звуки заспавшихся пассажиров... А поезд летел все дальше и дальше... Гул, гром и трескотня, глухо происходившая от трения колес о рельсы, отдавались в вагоне... А дождь шел и шел, ветер пронзительно выл. Мне не спалось, моя голова горела. Передо мной носились образы всех этих измученных, забитых, голодных людей, этих членов «запасной рабочей армии». Эти картины сменяли новые... Вспомнились типы людей такого же рода, прочтенных в романах и рассказах...
«А по бокам-то все косточки русские!» - вспоминается мне Некрасов... Как страстно захотелось служить этим людям, хоть сколько-нибудь облегчить их тяжелую участь! Да, надо непременно работать на них! Надо, непременно надо!... и откладывать это-то в долгий ящик нельзя... Завтра начну это! Завтра же сделаю хоть что-нибудь для этого старика (пока хоть для одного)... И вот в моей голове создался план, как я услужу ему. Я хотел, во чтобы-то ни стало, дать возможность ему доехать до дома, но со мной не было денег, да и его одежда была настолько плоха, что опасно было пускать его в далекий путь. Я решился представить его своим родителям, а оттуда уже отпустить на родину. Такая комбинация меня успокоила, и я тоже начал дремать.
До следующего раза...
24.02. (08.03) 1889 г.
Однако какая комедия твориться у нас в маленьких княжествах... Миланг, так недавно бывший неважной птицей, сделался королем, закутил, намутил и теперь с треском провалился!... В Болгарии – Фердинанд тоже командует... И тоже надо полагать, скоро провалиться. Меня во всех этих историях больше всего занимает вопрос о «героях и толпе»... Меланг, Фердинанд и т.п., субъекта – «герои». Они стоят на первом плане, они командуют... А там, вдали, «его, титана вижу, что к скале прикован... И снедаем невежеством и нищетою»... Да, ни будь этого невежества и нищеты, вряд ли могли появиться такие «герои»! ... И как ловко умеют такого сорта люди прикрывать великими словами свои низменные побуждения! Как они умеют ловко отуманивать головы, да не только простые головы толпы, но и более солидные головы!... А там, где трудно затуманить голову, за них говорят штыки. Надо же, ведь, солдат такой хитрый государственный механизм! Простой, темный люд, и так плохо понимающий окружающие его явления, еще более одурманиваются дисциплиной. И часто он, в силу этой самой дисциплины, не сознавая хорошенько ничего, идет убивать своих друзей! Да, ловко умеют «ловить в мутной воде рыбу» различные эти Миланги!
Мне сейчас вспомнилась история Румынии. Недавно сила там была на стороне министерства Братионо. И оно позволяло делать себе, черт знает, какие мерзости, прикрывая, конечно, все интересами государственными, народными... И не раз, благодаря этому министерству, солдаты этого королевства ходили убивать своих же братьев – крестьян (на правительственном жаргоне – это значит «усмирять бунтовщиков»). И темные люди, правда, думали, что так и должно быть. Что и все эти безобразия – необходимы... Но вот центр тяжести переменяется. Народ понемногу начинает сознавать свои права. Из бессознательного брожения и вспышек начинают создаваться вполне сознательные протесты. Сила народа растет все больше и больше... Братионо падает... А теперь его даже хотят судить, как преступника... Король Миланг, прикрываясь какими-то государственными интересами, хочет развестись с женою. Он не останавливается ни перед какими мерами. Синод и конституция отказываются развести его... Тогда он силою заставляет развести... Для таких господ ни авторитет церкви, ни религия ничего не значат: они сильны, значит правы. Зато жутко им приходится, когда сила от них отпадает. Миланг и новую конституцию дал, да толку-то мало в том, пришлось в отставку подать. Тоже и Болгарию ждет. Фердинанд очень смело поступил, выгнал митрополита, но ему, кажется, скоро придется поплатиться за свою скорость. Нет, что ни говори, а сила, видно, не в правде, а в силе. Хотя правда и переживает века, но ведь она тогда только и станет велика и сильна, как только станет силой. И так, надо стараться воплощать правду в силу... Этот вопрос о правде, о силе, о «героях и толпе» очень интересен, и как-нибудь надо разобрать пошире...
01.03. (13.03) 1889 г.
Сегодняшний вечер у меня вышел очень интересный. После занятий со школою, я начал читать этим школьникам. Прочитал им «Жена ямщика», «Воздушный корабль» и «Конька-горбунка». Особенно им понравилось «Жена ямщика». Но сильное впечатление на них произвели мои рассказы о земле, небе, солнце, о воздушных шарах и т.д. Все они слушали мои рассказы с большим вниманием им (как мне показалось) даже стало завидно, что я так много (сравнительно, конечно, с ними) знаю. Но в, то, же время, когда я им сказал, что если они будут заниматься, читать, то они сами будут много знать, они безнадежно махнули рукой. Видно по всему, что вопросы, затронутые мною, их волновали, но не находили сил решения и я первый их на это натолкнул. Их сильно интересует разгадать загадку окружающего мира. Когда мы кончили чтения и беседу, они все обступили меня с просьбой дать им книжек и главным образом таких, где бы говорилось о земле и небе. Заинтересовал меня так же и следующий факт. Один из самых плохих школьников (по успехам), казалось, очень сильно заинтересовался моими рассказами, и когда я его попросил повторить мною рассказанное, то он исполнил это довольно порядочно (тогда, как в наших школьных занятиях он отличался очень плохою способностью повторять рассказанное). Он же убедительнее всех просил у меня книжку: о земле, о небе. Он же лучше всех знает молитв и заповеди. Чем это объяснить? Вообще, надо сказать, что нынешний вечер оказал большую услугу в нашем сближении. И я открыл еще новую, симпатичную сторону в моих школьниках, а и они меня, кажется, узнали с другой стороны, и кажется, стали относиться ко мне еще симпатичнее. По характеристике солдат. На днях как-то Бобровникова фельдфебель сильно наказал за один неудачный ответ (он не мог ответить, как зовут наследника). Я сделался невольным виновником его страданий, так как вопрос этот предложил я, зная заранее, что он не ответит на него. Предлагая этот вопрос, я не заметил здесь фельдфебеля, который услышав такой ответ Бобровникова, сильно его наказал (заставил заниматься маршировкой в полной амуниции, да еще с нагруженным ранцем в течение 1½ часа). Когда я пришел просить у него прощение, он был очень удивлен этим, а потом стал меня успокаивать. На фельдфебеля он был зол ужасно, а, в конце концов, кажется, и ему простил...
Вчера воротился из заключения Быльев (он немножко побледнел и похудел). Интересно будет с ним познакомиться, а так же узнать о теперешних отношениях к нему окружающих рядовых.
К нам поступил новый вольноопределяющийся. Очень странное впечатление он производит: худой, бледный, с ничего не выражающею (даже прямо-таки глупой) физиономией, грязный, неряшливый. Курьезнее всего то, что этот мальчик (всего 18 лет) носит красную дворянскую фуражку (он потомок дворянина). Учился в училище правоведения, но потерпел фиаско, и поступил к нам вольноопределяющимся о 2-му разряду. Ему, бедному, теперь придется до 15 августа служить «так», «зря»! Срок службы начнет зачитаться только с 15 августа! Когда все мы стали спрашивать, зачем он так безрассудно поступил, он ответил, что ему «все равно делать нечего (хорош, ведь, аргумент!). Есть люди, которым «нечего делать», в силу чего они не находят ничего лучше, как поступать в солдаты!
Появление нового вольноопределяющегося взволновало некоторым образом нашу роту. Все с любопытством смотрели на новичка. Все старые солдаты спешили заявить мне, что у нас и еще «барин» есть. Нас, как обитателей «мертвого дома» интересует всякая мелочь. Да это и понятно: одуряющее однообразие, отсутствие здоровой умственной пищи, невольно заставляет обращать внимание и интересоваться всяким пустяком... Мне курьезнее всего кажется то, что даже и я начинаю как бы проникаться духом военщины. И меня уже начинает интересовать «наше». И я уже интересуюсь тем, что нового приказал «наш» командир, в каком порядке нашел то-то и то-то дивизионный или бригадный генерал...
06.03. (18.03) 1889 г.
В силу ли нездоровья, в силу ли каких других причин, нынешнее настроение моего духа очень плохое: тоска, раздражение, разочарование какое-то... А, ведь, пожалуй, в один прекрасный день я могу покончить все расчеты с жизнью... Конечно, в данное время это мне кажется невероятным, но если эти нравственные страдания будут возрастать все в такой, же степени, то, пожалуй, такой глупый, гадкий, безнравственный факт может случиться... Впрочем, довольно об этом...
В моих солдатах я замечаю большую любовь к чтению, к книжке. Теперь мне очень часто приходиться слышать: «Барин, дайте книжечку!». Потом, все с большим удовольствием слушают читаемые мною книги (мы прочли: «Кавказский пленник», «Живые мощи», «Жена ямщика», «Воздушный корабль», «Сорочинская ярмарка»). Больше всего понравилось: «Кавказский пленник» и «Жена ямщика». Мои ожидания от «Сорочинской ярмарки» не оправдались: слушатели смеялись, но не особо много. Надо будет теперь, как-нибудь, прочитать что-либо из научной библиотеки, тем ближе, что их уже заинтересовали мои рассказы о небе, земле, звездах. Мне кажется, здесь же придется и точку поставить, так как наша солдатская жизнь очень однообразна, и говорить о каждом «будничном» дне очень неинтересно. «Злобы дня», специально «солдатские» тоже не особенно интересны... Ну, что, например, интересного в приезде корпусного генерала, и в той бучи, которую он поднял в нашем солдатском мире? Собственно солдат его приезд мало интересовал, так как генерал приезжал открывать ошибки и проступки начальников. Надо отдать справедливость генералу, он исполнил честно свою задачу: он явился, как снег на голову. Вообще, всячески старался изловить, подсидеть, а для этого прибегал к различным уловкам (хотя, надо сознаться, противная сторона оказывалась еще ловчее), очень понятно, конечно, то чувство озлобления, которое питают все начальники к этому генералу... Во всей этой истории мне бросилось в глаза те факты, в которых выразились ярко наши общественные отношения. Ведь, уже давным-давно мы исповедуем ту идею (по крайней мере, в правящих классах), что не мы обязаны служить народу, а что он нам служит, хотя мы с удовольствием берем деньги с того же самого народа за наше, якобы «служение» - да еще стараемся ухватить кусочек как ни можно больше... Поглядишь на Францию, например, да и возмутишься на ее начальников... Какие же они начальники? Они сознают, что они находятся на службе у народа и боятся, что бы народ ни отказал им от места. Так, разве, начальник должен поступать? В нашем полку ожидают приезда начальника. В казармах грязь. Ее перед приездом начальника счищают (это не беда, что солдаты годы жили в такой грязи, да и опять будут в ней жить по отъезду начальника!) Какое нам дело до солдат. Нам бы только добиться благодарности от начальника (то есть добиться: наград, повышения, увеличения оклада!). Не беда, что солдаты целые годы питались впроголодь и были одеваемы гадко. Только высший начальник этого не знает, не захватил (знать-то это он прекрасно знает)... И т.д.!
Мне это напомнило приезд в наш город губернатора. Полиция распорядилась, чтобы обитатели «Большой улицы» посыпали песком тротуары, чтобы на улицах чистота была (а о том, чтобы этой грязи не было в обыкновенное время, об этом, конечно, они не заботятся, как не заботятся они и о многом другом, что входит в область их ведения). Как насмешил меня городовой, заявивший, что надо будет около нашего дома усыпать песком тротуар, так как в соседний дом (где живет отец протоиерей) в гости к хозяину приедет губернатор! Обыватели, по обыкновению, губернатору обед. За что? Спроси их. Они, пожалуй, и сами хорошенько не знают за что. «Да, за что?» – скажут они – «За то, что он, губернатор – начальник края». Начальник! Вот что главное! Будь он просто хороший человек, не начальник, конечно, никакого обеда не будет... О проклятое холопство! Когда же люди по разовьются хоть до того, чтобы понять, что не они созданы для губернаторов, а губернаторы для них! Однако я совершенно забыл о начатом мною рассказе... Надо будет за него приняться. Но, верно оставить его до другого раза...
07.03. (19.03) 1889 г.
Я сейчас перечитал все мною написанное в этих тетрадках, и как много нашел неоконченного, недомолвленного, недоговоренного... «Это не песни – это намеки: Песни невмочь мне сложить!».
Я затронул много вопросов, но только затронул, а разрешить их всесторонне не разрешил... И не то, чтобы сил на разрешение не было, нет! Силы-то были, а мешает мне в разрешении их моя безалаберность, моя расскиданность (в голове такая масса вопросов роится, все они просятся наружу так, что приходиться делать только «намеки»)... Оказывается, я пошел дальше, чем хотел: я хотел записывать только «свое прошлое и настоящее», а дело этим не ограничилось... Рисуя настоящее, я непременно касался тех вопросов, которые в это время меня интересовали (конечно, и тут не все вопросы могли быть написаны на бумаге)... Мне хочется больше всего продолжать начатое мною воспоминания о товарищах, а так же и о старике. Надо непременно продолжать и кончить, надо непрерывно, хоть понемногу уплачивать долг настоящим работникам, которым я так много должен... а как бы хотелось создать что-нибудь такое, что бы «жгло сердца людей», заставило задуматься не одну хорошую голову!... Нет, я непременно буду работать на этой дороге. Мне кажется, что я все-таки смогу сделать что-нибудь... Но это, впрочем, нисколько не обязывает меня бросать неразрешенными многие вопросы. Время от времени они будут получать соответственное освещение... И так буду продолжать...
Приезд мой в родные Палестины в этот раз был не особенно радостен, так как мне пришлось сообщить дома много грустных известий. Родные мои ждали меня, но очень были удивлены приезду гостя со мной. Я даже заметил на их добрых лицах недовольство, но впрочем, это скоро прошло.
– «Ты спрашиваешь, батюшка, зачем я в Питер-то ехал? За правдою, родимый, за правдою! Видишь ли, голубчик барин, была у меня избушка с клочком землицы, которую я приобрел за свои, да за сыночкины кровные трудовые денежки!... Жила в наших краях барыня (Купряха – по прозвищу), богатая барыня. Сколько у ней земли этой было – видимо-невидимо. Ну, вот, годов-то шесть тому назад купил я у нее эту избушку. За недорогую цену. А денежки трудовые были мои, сыночков, да и старухины. Давно это добивались мы своим участком-то обзавестись. Ну вот, бог и привел... И как мы зажили-то! Я-то больше уже на печке лежал (работать-то нельзя было: кила мешала), а сыночки работали, да нас со старухой и кормили. И думал я так и век вековать, да, видно, богу не угодно было! Вот в позапрошлом году наша барыня вздумала в Польшу отправиться, ну и продала все имущество какому-то господину... И стал этот господин нас с нашей земли гнать... Мы артачиться, а он силой Мы в суд (и бумаги все предоставили, тут и свидетели волостн. пр., да и рукоприкладство понятых), а суд говорит, что какую-то бумагу от нотариуса (запродажную, что ли запись, ну, а у нас ее нет... Ну, да и на што же ее, коли мы и в волости ее, покупку-то, засвидетельствовали. Так суд и не разрешил... И выгнали нас из нашего теплого гнездышка на нужду, да на холод. Недолго нам пришлось пожить в тепле!... Вот мне кто-то и говорит на селе-то: «Что старина горюешь? Ступай к царю. Он беспременно рассудит твое дело!.. Сколотили мне кой-каких деньжонок малость на дорогу... Наш Никитка (есть у нас один пьянчужка – его из семинарии прогнали) написал мне просьбу царю-батюшке... И таково славно написал! Да вот ты сам прочитай. Приехал это я пополам с грехом в Питер... Показали мне ход к царю... Только сам-то царь-батюшка ко мне не вышел, а какой-то начальник (генерал – не генерал, кто его знает!), взял мою бумагу. Про квартиру узнал... Недели так через 4-5 зовут опять меня к царю и говорят, что суд-то правильно осудил: у меня бумаги от нотариуса нет (что поделаешь! Опять той же бумаги!)... Что я ни говорил, ничего не вышло! Поехал я ни с чем домой»...
Сегодня я читал с солдатами «Муму» Тургенева. Рассказ понравился, хотя не все его понимали как надо. Когда я узнал у Зайцева про эту книжку, он сказал, что ему очень жаль Герасима, что ему такие неудачи, а он все свое сердце положил на любовь... Кажется, только Зайцев один проникся как надо (мне за последнее время очень нравится этот человек. Его доброе, открытое лицо, его искренность, все это сильно к нему располагает)... Сегодня же было первое знакомство с Быльевым. Он живой, бойкий парень, хитрый, неискренний. В начале рассказа он делал замечания, все с клубничкою. Под конец рассказа он заснул.
12.03. (24.03) 1889 г.
Сегодня мы читали Тургенева... Да, что Тургенева! Меня сейчас интересует совсем другое! То есть, скорее всего, сказать, меня сейчас ни чего не интересует... Гадко, скучно... Ах, как отвратительно бывает такое состояние! Чувствуется гадко, а заменить это гадкое состояние чем-либо другим не возможно! Чего-то хочется... А чего? И сам хорошенько не знаю... А оставаться в таком же состоянии невозможно, тяжело! Опять, кажется, начинается старая история – михлюдия. Так, начал, было, я рассказывать о наших чтениях, но право, мало интересного. За это время нам больше всего пришлось читать Тургенева. Описание картин природы не производит на слушателей впечатления. Их больше всего интересует разговор действующих лиц рассказа (особенно смешные). Любимые рассказы из военного быта, так же интересуют и рассказы с таинственными приключениями, с ужасающими драматическими развязками и завязками. Вообще, все грубо бьющее на нервы, производит и на них сильное впечатление. Понятнее всего и интереснее всего для них оказались рассказы Л. Толстого. Любовь к чтению, желание послушать хорошую книгу у них, кажется, у всех (или, по крайней мере, у большинства) есть. Как, однако, бедна моя настоящая жизнь фактами! Ведь кажется, вот все более интересное уже и сообщено...
Тихо сейчас в комнате, а на дворе ветер завывает, снег хлопьями валит... А на душе так гадко, так грустно!... Даже как-то страшно стало... Чего? И сам хорошенько не знаю!... Нет, когда это я, наконец, выздоровею? Буду продолжать свои воспоминания (может быть, хоть это развеет мою тоску!).
– «... И приехал я ни с чем – продолжал старик – а дома-то уже нет, землицы-то уже нет! Силушки работать, тоже уже нет!... Тяжко нам стало со старухой!... Да, что же поделаешь? Мы уже и всплакнули маленько... Да разве слезами горю поможешь? Только и вывозили нас детки – два сыночка... Уж и работали же они! Да, разве на эти деньги проживешь. Сам знаешь, барин, каково жить-то рабочему человеку? Есть работа – живы, а нет – тогда каково? Али, например, заболеешь, тогда-то что? Вот, к примеру, я. Проработал 30 лет верою и правдою на этой каторжной работе и килу схватил... Ну что ж? Отказали от работы... Делай что хочешь, а ты, мол, на большее не нужен. Хоть под забором умирай, а не нужен, да и все!»... – «Да, дедушка, плохо вам бедным! Небось, вон тому самому инженеру-то и пенсию дадут, да за работу-то заплатят больше, чем тебе, да и на той работе-то он килы не получит?»...
– «Ох, барин, не говори этого, грешно так... Да, ведь, на то он инженер, на то, бедный, так долго и учился, мучился... А мы что? Ведь мы едину-то книжку, и то от малой охоты прочитали... А он-то, подико, сколько книг-то перечитал... Да, что говорить, я премного доволен, нечего бога гневить!»... Однако обидно, зачем они не оставили старика хоть малую какую работу справлять?...
– «А что про инженера ты говоришь – это не дело: он свое заслужил... Нет, что ни говори, а бог тут» – вдруг быстро заговорил он – «Здесь он! Никогда он не забывает нас, бедных... Помнишь, небось, как Христос-то говорил: «Придите ко мне все верующие и обремененные»... Вот, к примеру, возьму себя... Ведь, погибал совсем... Ведь, есть, было, нечего, от холода коченел, чуть-чуть под забором не умер! А вот, наслал же он меня, батюшка, на тебя, барина, на того станционного начальника... Нет, здесь он – бог-то!... Здесь! Да это мне-то и завидовать другим, на бога роптать? Грех, грех! Чего же мне больше желать? С голоду не помру. Своих родненьких так же всех увижу... Больших, ведь, капиталов мне не нужно! Ведь, мне сыночки-то теперь по целковому в день зарабатывают!»... Я удивился малой требовательности старика, его незлобивости, терпимости (при тех страшных страданиях, какие ему пришлось перенести за это время). Потом, когда я ближе стал знакомиться с трудящимся народом, я подметил эту черту у большинства. – «Да, дедушка, что же ты мне не рассказал, зачем ты во второй-то раз в Питер ездил?...
– «Да, все за ней же, за правдой. Ходил к царю-батюшке помощи искать... Ох, да сколько я тут горя натерпелся, так и не расскажешь, пожалуй, всего... (текст отсутствует).
Мне сейчас вспомнилось маленькая беседа с Быльевым. – «Ах, барин, какой вы чудной!». – «Чем, Быльев?» – спросил я. – «Да, как же, вы и нашими солдатами не брезгаете! Я, право, вас «обожаю»... Все это было сказано им искренним, серьезным тоном. Уж, не в этом ли и путь к сближению?... Нет, правда, меня там начинают любить все, с кем я не сталкиваюсь...
17.03. (29.03.) 1889 г.
Наш фельдфебель свирепствует... Сегодня он помучил строй солдат на занятиях с 2-х часов до 5! С них бедных пот градом катился, измучились они черт знает до чего... Удивляет меня этим этот господин: у него прямо-таки существует какая-то страсть мучить солдат, притом совершенно бесцельно... Ему как-то не по себе делается, когда он увидит, что солдаты ничего не делают. Если бы, кажется, возможно, было, так он до смерти замучил людей на занятиях. А зачем? Он и сам хорошенько не знает! С него никто не требует такой исполнительности (да и к чему она, когда солдаты итак делают не плохо)... Странный, право, он человек!... Когда он видит, что люди работают, ему все кажется, что они ничего или почти что ничего не делают!... Сознает ведь, сам, что тяжело солдатам, а все-таки, не принуждаемый никем свыше, заставляет нести их эти тяжести... Он никого почти не пускает из казарм даже в праздники... Ужасно подозрительный человек, никогда никому не доверяющий. Родом поляк, он не только не тоскует по родине, но даже ругает и проклинает ее верных сынов, боровшихся за ее самостоятельность. Мне еще ни разу не приходилось видеть этого человека в благодушном настроении. Это или побелевший от злости и негодования начальник или тоже начальник, но холодный, гордый, с грубыми, пошлыми шутками, в которых всегда так ярко преобладает начальственный тон... По убеждениям он – солдат николаевских времен (хотя при Николае ему служить не приходилось). В его сетованиях на «новые» времена, на «реформы» в военном мире (а он очень любит толковать об этом), так часто звучит любимая его нотка – презрения к солдату, желание задавить его работой... Меня-то собственно удивляет больше всего эта – безумная жестокость. Ведь у этого человека, кажется, только и осталась в жизни дорогого, что – дисциплина, стойка, фронт и т.д. Правда, часто наряду с этим он сильно пьянствует... Водка, бесконечное истязание солдат, и опять водка. И больше ничего... Любовь к родине... Но у него ее нет! Свою настоящую родину он забыл, а Россия не родина его, здесь он наемный слуга... Меня не удивляет, что этот человек, чуть ли не 3-й срок уже служит, хотя я уверен, что там «на воле» он мог бы так же прекрасно устроить свои материальные дела. Конечно, у него, как и у других, рыльце не особенно чисто! Ведь там, «на воле», для него нет подходящей среды... Вечно командовать, вечно мучить!...
Мне сообщили сегодня про него курьезный факт. Несколько лет тому назад, он мучил одного «барина». Тот всячески старался отделаться от этих мучений, и для сего стал подкупать фельдфебеля, но фельдфебель... оказался неподкупным!... По словам рассказчика, все подарки, принесенные ему, он раздавал солдатам (конечно не в силу чувства сострадания, не в силу любви к солдатам, а просто так ему не хотелось пользоваться приношениями!)... За свои подвиги он уже два раза подвергался ответственности... И все-таки человек не унялся!... Его поведение чуть-чуть не вызвало раз страшную катастрофу, окончившуюся гибелью двух жизней (один пьяный солдат чуть не зарезал его ножом. Его успели отвести из той комнаты, где был фельдфебель)... Кстати, о «толпе» (как-никак, а ведь, фельдфебель был-то герой)... Она ужасно стойко переносит все тяготы (в душе, конечно, ругаем, ругаем и за углом), у нее не хватает духа солидарности, чтобы заявить протест. Конечно, самую большую роль в такой пассивности солдат играет наше русское долготерпение, наша выносливость... А тут еще и дисциплина сильно гадит! Ах, как страшна эта дисциплина! Она отбивает у человека всякую энергию в выражении протеста... Только и можно протестовать, находясь в состоянии невменяемости (как это чуть-чуть было, и не сделал Быльев)... Ведь, чтобы идти сознательно (а, не находясь под влиянием сильного аффекта, или в невменяемом состоянии) на протест, нужны громадные нравственные силы!... А таких сил найти среди солдат очень трудно... То есть силы – есть, да они совершенно бессознательно действуют (взять, хоть, например, замечательные геройские подвиги, где в таком ярком свете рисуется могучая нравственная сила нашего русского солдата)... Ужасно горько сознавать, что эта же дисциплина сильно портит нравственность солдат в том отношении, что поселяет дух раболепия... Ходить за примером далеко не надо. Сам фельдфебель когда-то был солдатом, когда-то на своих собственных плечах выносил все те тяготы, какие он взваливает теперь на других... Кажется, собственный опыт должен бы был убедить его в том, что необходимо избегать таких безобразий, а вышло наоборот... И в этом виновата одна только дисциплина. Она именно так воспитывает людей, что до тех пор, пока они солдаты, они должны теперь раболепничать, а как только они становятся начальниками, они начинают пригнетать других. С ослаблением дисциплины, начинает утрачивать свою силу и только что высказанный принцип. Так теперь уже такие фельдфебели, как наш, оставляют исключение. А в прежнее время они тоже составляли исключение, только в противоположную сторону, так как тогда были и еще безобразнее...
Натан вернулся из больницы. Он сильно похудел, осунулся. Но взгляды его остаются такие же... Вечно чего-то спрашивает. Но ведь он очень печален, мрачен. Он все время молчит, занимается совершенно без всякой охоты (кажется, мысли его во время занятий блуждают где-то далеко)... Ну, на сегодня довольно. Хотел, было продолжить о старике, да спать очень хочется...
11 часов вечера.
27.03. (08.04.) 1889 г.
Давненько не писал я в своем дневнике. Да, кажется, ничего особенного и не случилось за это время... Весна еще до сих пор не приходит. Небо какое-то хмурое, осеннее. Снег и «осенний» мелкий дождь постоянно чередуются. А тут еще пронзительный холодный ветер... На душе так же пасмурно, как и на небе. В окружающей обстановке мало перемен... Разве вот Натана опять взяли в лазарет... Оказывается, он до сих пор крепится!... Что-то с ним, бедным, будет?... Потом Кузимский пожаловался на фельдфебеля ротному (фельдфебель ударил этого рядового). Ротный обещался сделать Еленеу выговор... Вот и все то, чем разнообразится наша скучная жизнь. Нет, правда, скучная эта наша жизнь!... Если бы в наш «мертвый дом» порой не заходили вести с «воли». Если бы мы сами не сообщались с «вольными» людьми, право, мы все погибли бы... Ведь эта одурманивающая обстановка губит и не такие слабые натуры (в смысле умственного и нравственного развития), каковы наши рядовые, но и людей, поживших сознательной жизнью!... Отсюда понятна та тупость, та пригнетающая пустота, которой так богаты наши солдаты. Понятна так же и нравственная грубость, облекающая твердой корой душу человеческую, в которой все-таки не перестает биться родничок чистой живой воды... Эх, что бы могло выйти из этих людей при другой обстановке... Если не изо всех, то из многих! Взять бы хоть Натана. Ведь все эти натуры довольно выдающиеся. Да поискать получше, и еще найдешь!...
Моя поездка на родину дала мне случай встретиться с одним нашим студентом Х-вым. Тоже интересный человек. Горячий, пылкий, увлекающийся, добрый. Но, кажется, совершенно без определенной программы, вступающей в жизнь... Он добр, негодует на зло, готов даже во имя правды пострадать... Я даже верю в то, что он и жизнь свою, пожалуй, не пожалеет (происходя от людей восточного типа, он унаследовал от них главные черты их характера: страстность, увлеченность до самозабвения), отдаст за какое-либо «добро». Но, все-таки, в самом-то нем вполне цельного ничего нет... Он живет как-то порывами. Теперь, например, он увлекся изучением жизни турок, и вот отправляется теперь туда (надо добавить, что он человек состоятельный, то, что поездки эти ему всегда удаются). Его, собственно, интересует жизнь простого народа в Турции... Он уже был в Австро-Венгрии, был в Южной Пруссии. Знаком с внутренней Россией... Курьезно то, что ему скоро надоедает жить в одном и том же месте. Я уверен, что из этого человека жизнь не выработает ничего цельного, определенного... Он, наверное, всю жизнь проживет порывами. Зло, конечно, делать не будет, но и основательного добра вряд ли много даст... Даже, пожалуй, сделает когда-нибудь и зло, конечно, не сознавая, что он делает зло... Мне кажется, что такого рода людей у нас в России много, очень много, только в разной степени люди обладают этим свойствами...
И какую громадную разницу представляют, как посмотришь, с ними люди такого плана как Анатолий! Правда, между ними есть и общие черты – это жажда правды, ненависть к злу... Но и только... Правда, здесь так же происходит частая смена взглядов, но в данном случае, это объясняется выработкой убеждений, отыскиванием новых идеалов, разочаровании в старых идеалах, в силу их непригодности к жизни, к достижению правды... Люди этого типа – вечные борцы, вечные труженики-муравьи... Врожденное или выработанное ими самими стремление к правде, не может остаться у них несущественными. Они отыскивают, борются, падают, опять встают, гибнут, умирают. Но все это делается вполне сознательно, освещается одною общею идеею – воплощением добра... в их жизни, их стремлениях нет неопределенности, каковая существует у людей типа Х-ва. Кстати, заговорил об Анатолии, буду продолжать воспоминания.
Грустный, опечаленный воротился он с Сибирских заводов... Планы его начинали рушиться... О своей экскурсии он все-таки не жалел, так как здесь он познакомился с рабочим людом, сблизился с ним, так же точно, как сблизился он в казарме с солдатами... Конечно, сближение это не стоило ему больших трудов, как его студенческая жизнь в материальном отношении была обставлена вряд ли лучше. Я, как сейчас помню его маленькую комнатку с ободранными шпалерами, с одним небольшим оконцем. В этой комнатке негде было повернуться, так как почти все свободное место было занято книгами, журналами... Меня теперь очень удивляет, как это только мы могли помещаться в такой комнатке компанией в 5-6, а иногда и 8 человек (правда воздух был такой спертый, что хоть топор вешай!)... Хозяин его квартиры, рабочий рояльной фабрики, добродушный человек, занимал квартиру в 2 комнаты где-то в глухом переулке Выборгской стороны... Любимым обедом Анатолия были щи и гречневая каша (ох, сколько он поедал их!)... Вся жизнь стоила ему рублей 11-12. Остальные деньги (он получал стипендию 25 рублей) он отдавал своей племяннице... Разочарования в будущих планах все больше и больше завладевало им... Долго он боролся своими новыми мыслями... Он теперь стал ясно сознавать, что сила-то не в том, что он будет прекрасным практиком, инженером, который будет вводить сознательный элемент в работу членов своей ассоциации (о которой он тогда так страстно мечтал), а возможна ли даже такая ассоциация?... Он читал Маркса, познакомился с экономическими теориями, познакомился с историей развития общества... Он видел, что в жизни идет сильная грызня, борьба. Видел страшное возрастание конкуренции. Он понял, что его ассоциации при таких условиях несдобровать... Его душу охватило отчаяние. На минуту пропала даже вера в правду, в истину... Но это было минутное настроение... Стремление к добру взяло верх... Он начал искать другие пути... А как было тяжело ему расстаться с прежними своими мечтами... Я вспомнил сейчас один из эпизодов его путешествия по Сибири... Усталый, измученный пробирался он к одному сибирскому городку М... Горы синели вдали, а по бокам ели шумят... Ноги вязнут в песке. Он поднимается на какую-то возвышенность. Вдруг обрыв... А внизу чудная картина... Речка, как серебреная змейка извивается, шумит и бурлит... А бархатная мурава, как бы старается запутать ее... там же внизу лес сосновый приютился около речки... А левее нас приютился и завод с его доменными печами... Тут же около него и село приютилось. Как радостно забилось сердце Анатолия, когда увидел эту чудную картину... «Вот цель моей жизни! Такой завод, село с его вечными тружениками крестьянами... И тут буду я работать! Сюда вложу я свою душу, отдам этим людям все свои силы, знания!»... Милые, хорошие мечты! Сколько было в них прекрасного, но как все-таки они были наивны!...
Пока есть охота писать, буду это делать. Вспомню о старике.
– «Зачем же, дедушка, ты в другой раз поехал в Питер?». – «Ох, родименький, а как же! Ведь совсем плохо пришлось. Детушек-то жаль утруждать. Ведь, они бедненькие и то уже много трудились... Что же им меня зря кормить! Поехал я опять в Питер. Как доехал одному богу известно! А что там-то перетерпел, да оттуда едучи, так уж и совсем горе! Ну, ты сам посуди! Ведь я не вор, не грабитель, а довелось-таки мне в тюрьме посидеть... Ох, тяжко, тяжко! Ну, да теперь уж что вспоминать! Или и то возьми в расчет! За что же меня под конвоем то, как преступника-то вести... А, ведь это было!
Встретил в Питере-то меня какой-то генерал опять, взял мою бумагу и сказал, что через две недели пришел я. Прихожу. Говорят, что меня осматривать будут. Пришел доктор. Осмотрел. Положил меня в больницу. Там я с месяц пролежал... Ну, говорят, неизлечим, надо, мол, выписать. Выписали, еду на родину. На казенный счет отправили... А казенный счет – это этап, значит... Вот тут-то я и натерпелся-то бед! Ну, сам посуди, не вор, не грабитель, а под ружейным караулом идем, в острогах сидим, в арестантских вагонах везут... Ох, тяжко, тяжко было, родименький! Вспомнил тут я всю жизнь свою... Вспомнил и деток своих, и старушку... Они-то, бедные, небось, не знают, как я, старик, мучился... Кабы знали-то, не допустили бы до этого! Вспомнилась тут мне вся моя-то жизнь... И как я у барина в казачках жил, как он на пашню меня пересадил, как в город на оброк послал, как бивал... Как потом я на заводах мучился, вся-то жизнь мне вспомнилась... Бывало тяжко, скрыть нельзя, а все-таки и хорошее было бы, не забывал... Как не бил барин, а жив, остался, как плохо не жилось, а с голоду не помирал»...
08.04. (20.04.) 1889 г.
Сегодня канун пасхи... А давненько-таки я не заглядывал в свой дневник! «Не было бумаги» – говорю я сам себе – «Да и денег не было, так вот и приходилось молчать»... Да много ли я потерял, благодаря этому? Кажется, что нет... Жизнь идет так же однообразно, как и шла... Все-таки постараюсь вспомнить все более интересное...
09.04. (21.04.) 1889 г.
Христос воскрес!... Целый день раздается гул колоколов, говор гуляющего народа. В голове тяжесть от выпитых нескольких рюмок («Визитных» – как здесь говориться), тяжесть и от съеденного в виде «закуски»... Все это вместе производит не особенно приятное впечатление... Ни мыслить, ни делать ничего не хочется... Скука одолевает страшная... А колокола все гудят, а в ушах все еще звучат звуки молитвенных пений священников, приезжавших с поздравлениями... Вообще-то все это скоро надоедает, ибо все это очень скучно...
Невольно как-то напрашиваются воспоминания детства... Господи, с каким нетерпением, с какою радостью ожидался этот праздник! Как весело, радостно было на душе в продолжение всей этой светлой недели!... И как было грустно, больно расставаться с этим дорогим праздником!... Мне вспоминается потом другая пора моей молодости – юность, те моменты, когда в первый раз появились приступы скептицизма. Сердце говорило одно, а ум совершенно другое... Хотелось бы веры, но она уже догорала, уже последние лучи этого догорающего солнца силились осветить ту пустоту, которая образовывалась от скептицизма... Сердце искало тогда чего-то другого, могущего заменить эту пустоту, но его не было... Тоскливо, мучительно было... Но вот, настала новая пора, когда уже это пустое было заменено более живым, более интересным материалом. Теперь уже для меня нет таких праздников. Есть только один праздник – праздник торжества заветных стремлений, заветных идеалов... Но, все-таки, отчего мне это иногда, в минуты грусти, в минуты раздумья, вспоминаются милые картинки далекого прошлого. И то, над чем тогда так зло (и так искренно в это, же время) насмеялся, теперь становится такою дорогою, милою потерей!... Правда тогда верилось в призраки, но верилось сильно, широко, ибо тогда свои собственные силы стояли, совсем в стороне (тогда больше всего веры во что-то высшее, в сверхъестественное)... Конечно, тогда не могло являться разочарованием. Ведь, не могло же явиться подозрение к этому высшему существу, что оно поведет по ложному пути... Теперь, когда силам сверхъестественным отводится последнее место, когда выше всего, и, прежде всего, становятся свои собственные силы (в силу жизненного опыта, в силу знаний и других причин, вера в целесообразность всего мироздания поблекла), тут уж может являться вопрос и о ложности пути, являются разочарования. Уж такой полноты веры, какая существовала прежде, не может существовать... Но жизнь-то все-таки сама по себе теперь стала много полнее, так как теперь уже человечеству придется вести вечную борьбу старых, отживающих начал с новыми, нарождающимися... А ведь, жизнь без борьбы, без смены впечатлений – не есть жизнь... Вера в высшие силы, вера в авторитеты, недоверчивое отношение к своим силам, все это вместе ужасно губит человека, отдаляет его от настоящей жизни, замораживает его ум, сердце, волю... Замечательно, что там, где еще сильно господствует авторитет церкви, в тех государствах цивилизация стоит на низкой ступени развития, сравнительно с теми государствами, где этого господства нет. Авторитет церкви и наука – это враги...
Однако, довольно... Я еще хотел вчера вспомнить кое-что интересное из прошлого, но «мелочи жизни» мне вчера помешали это сделать. Постараюсь сделать хоть сегодня...
У меня вышло маленькое недоразумение с А.В. Мы друг друга затронули за живое... А.В. не хотелось признать моего авторитета (в смысле положительных знаний существования авторитета, вполне возможного и естественного)... Мне же не понравилось рутинерство, узость взгляда...
Но еще интереснее инцидент с Т. Б. Этот человек, положительно, в тупик меня ставит... Такая странная привязанность! Такая сила увлечения! Чем объяснить это? Как разгадать загадку?... Уязвленным самолюбием? Но, ведь, все те поступки, к которым Т. прибегает, еще больше должны уязвлять его?... Истинным увлечением? Но есть поступки, говорящие как раз против этого... Нет, это просто-таки загадочная натура... А тут еще новые известия о брошенном, забытом, и через это сильно страдающем человеке... Наконец, инцидент с провизором... Нет, правда, трудно разобраться... Это или, изломанный, исковерканный, сильно страдающий человек, свято, но до сих пор блуждающий во тьме, не умеющий прямо-таки брести при свете, и через это сильно страдающий, а через это впадающий часто в громадные крайности, или это умный, ловкий, прекрасный актер, ловко умеющий разыгрывать жизненные комедии. Актер, вся жизнь которого, только и идет на разыгрывание этих комедий... Сейчас же является вопрос: да зачем же нужно это разыгрывание комедий? Откуда явились такие понятия, которые этими комедиями исчерпывают весь жизненный смысл? Не в силу ли опять также изломанности, неустойчивости, которая так свойственна не только людям неразвитым, но и людям, часто высоко стоящим в умственном отношении... Нет, я решительно отказываюсь понимать этого человека!
В казарме у нас злобою дня были экзамены ротных школ нашего батальона... Десятая рота, как говорят солдатики, «отхватила спасибо»... Наша школа отвечала тоже не плохо... Теперь, кажется, со школьниками придется распроститься... Но я все-таки надеюсь, что если мы распростимся с ними по школьному делу, то мы останемся в таких, же тесных, дружеских отношениях на почве человеческих отношений... Натан «возвращен» в первобытное состояние, как выражено в официальной бумаге... Для него найдена, как говорят солдаты, уже и невеста с приданным в 100 рублей. Добился-таки человек своего! Знать уже суждено ему быть раввином!... А, ведь, недешево стал ему в нравственном и в физическом отношении это борьба...
Т.Б. дал мне 8 рублей на покупку народных изданий. Какую массу я накупил полезных, хороших книжек! Да, много-таки теперь есть порядочной пищи и для народа! Жаль только, что большой недостаток чувствуется в популяризации положительных знаний по всем отраслям, а главным же в области общественных наук... Но этот пробел, кажется, скоро будет заполнен, если уж не громадным количеством книжек, то все-таки, хоть некоторым числом. Так, я слышал, что Гольцев хочет издать ряд брошюр по экономике. Педагогический музей – по другим общественным наукам. Недавно вышла новая интересная книжка: «Экономические беседы»... «Посредник» хочет издать несколько книжек исторического характера (эта сторона книжного издательства, правда, у нас плохо затронута).
16.04. (28.04.) 1889 г.
Вот и «Святая» прошла!... Прошли радостные веселые дни!... Опять настает то однообразное, скучное время – будни, вместе с которыми всегда бывает, сопряжен вечно скучный, однообразный труд... Нет, что ни говори, а громадное значение для человека рабочего имеют праздники!... Они не только служат ему минутой отдохновения, средством возобновить упавшие силы, нет, они приносят ему и минуты нравственного, душевного наслаждения!... Праздник (особенно такой большой, как Святая, Рождество) – это целая эпоха в его тяжелой, трудовой жизни... Вечно каторжный труд, вечно жизнь впроголодь, вечная борьба, сопряженная с лишениями, страданиями, как физического, так и морального характера. И впереди не одной светлой точки, ни одного более или менее возвышенного идеала... Грызня, грызня и грызня! Это же измучивает человеческую душу, которая, какой бы толстой корой жизненной грязи она не была покрыта, все-таки просит счастья, просит воздуха, она задыхается в этой страшной, вонючей атмосфере «борьбы и наживы»... Одна только вера и спасает этих людей (вера если не в лучшую, здешнюю жизнь, то хоть в загробную)... Не будь веры, да не будь сознательного отношения к жизни, людям этим тяжко бы пришлось жить... Люди создают себе праздники за тем, чтобы хоть на время «смирились души волнения», «расходились бы морщины на челе», и «в небесах бы видеть бога...». С этими праздниками обыкновенно бывают, сопряжены самые лучшие воспоминания из религиозной области... Хоть один момент, а все-таки человек переживает «страданья» или «горькие» (которые своею горечью приносят человеку все-таки отраду) минуты... Как страстно желается каждому человеку хоть на миг удалиться от житейской прозы, хоть на миг забыться!... Он с нетерпением ждет этот великий праздник, он напряг все усилия, чтобы, как ни можно радостно провести, встретить его... Конечно, не всегда это удается... Эти великие праздники производят гуманитарное действие на всех людей: хоть на миг, хоть на час у людей затихает злоба, хоть на миг люди чувствуют, что все они братья. Все они становятся как-то добрее, счастливее... Изменятся времена, изменятся, конечно, и нравы... Когда люди станут, развиты, когда сознательное отношение к жизни проникнет в головы трудящейся массы, тогда, конечно, не нужны будут такие праздники (не будет праздников такого рода, но праздники-то будут, они изменят только свой характер) как теперь... Тогда и без таких праздников люди будут сознавать свою солидарность, будут находить нравственное удовлетворение совершенно в другом... Не нужны будут тогда такие грандиозные обманы, которые (отчасти сознательно, а отчасти и бессознательно) окутывается вся трудящаяся масса... Поскорее бы приходило это время!...
18.04. (30.04.) 1889 г.
Сегодня мы были на первом батальонном учении... Громадное поле, покрытое зеленеющей травкой, ряды солдат с ружьями, музыка, офицеры... Все это настраивает как-то на особый лад. Становиться как-то страшно (именно страшно, но не от трусости). Всюду колонны войск. Куда не оглянись, всюду штыки, штыки... Колонны движутся, музыка гремит... Всюду офицеры... Все это, в общем, действует на тебя, единицу, очень сильно... Тут только начинаешь познавать массовую силу, ничтожество, а в тоже время и силу свою, той самой малой единицы, из которой составляется эти громадные, сильные массы... Мне невольно вспомнился рассказ Гаршина «Воспоминания рядового Иванова», и главным образом, один эпизод, когда солдаты проходят мимо государя... Замечательно верно были описаны им те ощущения, которые испытывала каждая единица, вдвинутая в эту могучую массу, сильную, могучую как поток...
Потом мне припомнился еще один эпизод... Только уже из нашей собственной жизни... Мы входили в казарму по лестнице... Мы были с ружьями, так как дело было после учения... Это однообразное движение ружей, топот сильных ног, сдержанный говор... Все это мне как-то представилось совершенно в другом свете... Мне как-то смешно даже стало от моей фантазии... Мне представилось, что мы совершаем какой-то переворот... Может быть, дворцовая революция, может быть, захват власти... Вот взойдут войска, захватят все входы и выходы, захотят, возьмут в плен своего врага, принудят его к исполнению каких угодно требований... Я задумался... Откуда у меня могли явиться такие фантазии? Разгадку я нашел в этой всесокрушающей, всемогущей, но, в тоже время слепой силе... Да, именно слепой... Стоит только ее направить... О разумном, сознательном изменении направления, конечно, не могло быть и речи: умственный и нравственный склад единиц этой массы, так низок, что трудно им привить иные убеждения, когда люди эти вечно видели над собою палку, вечно слышат «Не рассуждай, повинуйся!». Где уж тут говорить об убеждениях!»... А до чего слепа эта сила! Она способна идти и за республиканцами (во время революций), и за врагами республики (во время монархии), присягая Петру III, она идет за Екатериной II и низвергает Петра... Она возводит Елизавету совершать революцию во имя деспотизации. Она идет против Николая, а потом убивает своих же друзей, бывших врагов Николая. Возвращались с учения мы с песнями... Усталости как не бывало! Песни пелись все веселые, бойкие!... Особенно отличался Кад-в... Замечательный человек этот К-в. Умный, живой, веселый, ловкий! На Руси, говорят, все хорошие люди поют... К-в тоже горький пьяница!... На Святую, например, он пропил все свое белье... Но, он вечно весел, его, кажется, никогда ничего не смутит, не омрачит. Под этой, с виду очень сумрачной, даже сердитой физиономией скрывается такая добрая, милая душа, такой бойкий, живой ум...
20.04. (02.05.) 1889 г.
Наконец-то кончилась эта знаменитая «стройка» мундира, шинели и других принадлежностей... Три дня продолжалась эта томительная, душу вытягивающая работа!... Придешь рано утром, сидишь, сидишь, ждешь, ждешь, и ничего не дождавшись, уходишь в казарму... И это продолжалось так три дня! Уж лучше быть на строевых занятиях, чем сидеть в этой проклятой швальне!... Впрочем, эта «постройка» (скорее, посещение двора швальни) имела для меня и хорошее последствие, так как мне пришлось познакомиться с довольно оригинальными личностями, а так же познакомиться с гауптвахтою... Гауптвахта – три небольших комнаты. Одна для караула, другая для подследственных, а третья уже для арестов провинившихся солдат. Вся эта небольшая комната разделена на 10-12 маленьких камер (помещение каждой камеры таково, что заключенный в ней разгуливаться не может, негде). Из них в 7-8 имеются маленькие мутные оконца, а в остальных 5-и совершенно темно (это, так называемый, усиленный арест). В каждой такой каморке имеется голая нора... И больше ничего... И в такое-то помещение сажают на 10, 20 и более дней! Да еще очень часто дают только хлеб и воду (строгий и усиленный арест)!... Хорошо хоть, правда, что караульные солдаты относятся к ним добродушно – «от тюрьмы да от сумы не отказывайся!»... Сегодня солдат караулит своего товарища, а завтра его самого будут караулить! Такова уж военная дисциплина!... Хотя, все делается с большою предосторожностью, ведь такие поступки наказываются тюрьмой. Еще печальнее зрелище представляет отделение для подследственных... Правда оно объемистее, в нем светлее, да и спать приходится не на голых нарах, но зато нравственное состояние много тяжелее, так как, человек, сидящий здесь, вечно мучается мыслью: что-то будет с ним потом? Как-то его осудят... Да, наконец, и сидение одиночное без всяких занятий, без работ, без прогулок, ужасно гадко действуют на физическое и нравственное состояние человека... Мне пришлось познакомиться с обитателем этого жилища...
Он сидит уже с июня месяца (поступил он с 84 года), так что, если бы с ним не случился грех, то он давно бы был в запасе... Этот солдат – есть яркий представитель особого типа людей – «отчаянный»... Выработку такого типа я приписываю только одной дисциплине... Солдату этому уже не раз ротный замечал о его скверном поведении, заявляя, что только из-за жалости к нему, да из-за того, что ему уже мало осталось служить, он не отдает его под суд... Уж что только с ним не делали!... Никак не могли его исправить. Все это кончилось следующим печальным фактом: раз, напившись чересчур, пьяным, он в драки из-за какой-то особы женского пола, бросил камень в унтер-офицера... Теперь судьба его на днях кончится (приехал военно-окружной суд). Даже при самых благоприятных условиях, то есть, когда он будет оправдан (но это вряд ли случится), он и то очень много потерял: во-первых – кончит службу позже своих товарищей... Этот факт напомнил мне другое лицо – нашего школьника – Каданцева. Ему, бедному, недавно пришлось сутки просидеть под усиленным арестом за то, что он в пьяном виде распродал почти все свои вещи. Чуть-чуть не оставшись, как говорят «в чем мать родила». А это один, ведь, талантливейших людей нашей роты... Он очень у меня боек, жив, хорошо знает грамоту... А какая масса у нас этих язв!... Люди же трезвые, смирные, в нравственном отношении стоят очень низко... Да и вообще воззрения на нравственность у этих людей часто бывает очень курьезные, так что я теперь с осторожностью принимаю отзывы солдат друг о друге... Конечно, из всех этих людей есть исключения, но они очень незначительные. Особенно меня огорчает – это особый взгляд на обман... Украсть 100, 200 рублей жульническим образом не только не считается возмутительным, но, напротив, этому завидуют, этим восхищаются. Да, впрочем, что же удивляться на этих темных людей, когда люди, более их умные, более обеспеченные, и то воруют (да как еще воруют! Рублями, пятерками, десятирублевками не брезгают)... За последнее время я узнал такую массу фактов такого характера, что мне стало совершенно ясна вся эта мерзкая махинация... Особенно возмутительно то, что, в конце концов, страдают опять-таки солдаты, вообще бедная трудящаяся масса (богатого человека это воровство не беспокоит)...
21.04. (03.05.) 1889 г.
Сегодня попробовал почитать с солдатами... Особенно сильное впечатление произвели: «Сократ» и «Ломоносов». Кроме того, прочитали мы еще «Пропавшая совесть» и «Сказку о рыбаке и рыбке»... Все почти эти произведения наводили слушателей на ряд новых мыслей и выводов... Они искренно сожалели о Сократе, радовались за Ломоносова, толковали о совести, о праведных людях... Из сегодняшних чтений я могу вывести заключение, что биографии выдающихся людей по их жизни, по их учению производят очень большое впечатление, быть может, потому, что это «правда», что это – «так бывает». Сказки же им нравятся потому, что в них сильно работает фантазия, рисуются довольно сильные (в смысле производимого впечатления) картины. Да и нравоучительная сторона всех сказок им тоже нравится, так как в жизни им мало приходилось видеть торжествующее добро и наказанное зло... Этим же я объясняю и то громадное впечатление от биографии Сократа и Ломоносова: им пришлось воочию увидеть торжество света над тьмою в лице этих живых людей, а не героев какой-либо фантастической сказки...
Недавно из нашего полка сбежал один солдат (музыкант). Теперь, говорят, он уже за границей. Парень, говорят, был ловкий, ушлый, богатый. По происхождению он был немец.
24.04. (06.05.) 1889 г.
Хочу занести в тетрадку впечатления настоящего дня... Прежде всего, сильная физическая усталость, потом и нравственная... Мне сейчас припомнились некоторые эпизоды нынешних занятий. Зависть нашего батальонного к Резервному батальону, где людей морят как собак (зато ведь, уже и солдаты вышли!)... Вспомнились мелкие факты, в которых сильно выражалось третирование солдат («Этих баранов надо побольше муштровать, побольше мучить!». «Ах, это поганая овца, она весь батальон изгадила!»... и т.д.)... Подумаешь, из-за чего так много людьми крови портится, из-за чего так людей так мучают? Да, из-за того, что бы похвалил какой-то генерал или полковник... Похвалить, можно награду ждать, а там и повышение. А значит и больше оклад жалования... Отчего же подчас и не разыграть роль истинного патриота, истинного друга солдат, когда это не сопряжено с расходами!... А что бы похвалил надо лицо товара получше отделать (а какова внутренняя часть – до этого дела нет! Была бы блестящая внешность!)... А что бы этого добиться, надо учить солдат, иными же словами, надо мучить, терзать людей, унижать их достоинство... Кто же там бог, которому такие дорогие жертвы приносятся? Этот всепожирающий бог есть то личное я, которое сидит в каждом человеке, которое здесь-то более всего и фигурирует. Я еще не видел ни одного искреннего, бескорыстного слуги отечеству, (самые искренние слуги отечеству, конечно, будут солдаты, но ведь, о них нельзя говорить, ибо это не люди, а шеренги, молчаливые, безропотные ряды людей без собственной воли, по крайней мере, в то время, как они стоят в шеренгах)... Все эти, так называемые, слуги отечества, ведь, только прикрываются этими именами. Их приводит в ряды воинов или тщеславие, или нужда, или корысть... Я еще не видел ни одного истинного друга солдат, который, не задумался пожертвовать личным интересом ради них... Нет, напротив, личные-то интересы тут и играют громадную роль (даже, пожалуй, как нигде более). Этой же атмосферой заставляют дышать и бедных солдат, которые конечно, задыхаются или же заражаются.
03.05. (15.05.) 1889 г.
Наконец-то мы опять входим в свою колею... А сколько, правда крови было перепорчено не только у начальства – это, ведь, вполне понятно, и у солдат... Ну, да и трудов пришлось много перенести... Эти полковые и батальонные учения до конца измучили!... А там чистка, уборка казарм... Бедным солдатикам ночей приходилось недосыпать... Весь этот сыр-бор загорелся из-за командующего войсками... К его приезду собрались все и менее важные лица... Первым нас смотрел бригадный генерал. Толстенький, красненький, низенького роста он производил веселое впечатление... Он ужасно горд (никогда не отвечает на отдавшую ему честь не только солдатами – это было бы вполне в порядке вещей, но и офицерам)... Но сам, все-таки, находился под сильным впечатлением одной гимназистки – совсем еще девчонки... После него явился нас осматривать дивизионный генерал. Его физиономия производит приятное впечатление... Он очень хорошо говорит (после смотра он закатил нам такую красивую речь, что все в восторг от нее пришли). По-видимому, он очень строг, так как на маленькие пустяки обращает серьезное внимание (про Московский округ надо сказать вообще, что он очень серьезно относится к своей обязанности)... Особенно серьезное внимание им обращается на форму, на внутреннюю обстановку в которой солдаты вращаются... Конечно, нашим начальникам такие люди очень, очень не нравятся... После сего господина нам пришлось увидеть, наконец, и командующего войсками, но перед этим нам пришлось присутствовать, да даже играть, и активную роль на одном довольно интересном церемониале... В воскресенье 30 апреля мы принимали на кадетском плацу присягу... День был ясный, воздух был чистый, благоухающий... Нас обрядили в парадную форму... Все как-то веяло праздником... Но вот раздалась команда: «Смирно», «На плечо», «Слушай на караул»... Грянули все барабаны... На плац вносились знамена... Их было четыре... Все они были уже довольно потерты, истрепаны, а одно так и совсем почти ничего не имело (только два махра висели)... Невольно как-то все солдаты на миг затаили дыхание... По всем лицам было видно, что они с какою-то радостью смотрят на эту военную святыню. По этим лицам было видно, что эти люди не пожалеют даже жизнь свою, только бы спасти свою гордость, свою честь... Мне было чудно смотреть на самого себя: я такой сильный скептик, но и, то проникся таким чувством. Музыка, гром барабанов, блестящие штыки, смуглые лица с каким-то радостным, счастливым выражением во взоре. Все это вместе должно быть, и меня-то настроило на такой лад... Да, велико влияние окружающей тебя массы... Но вот первый порыв прошел и настает житейская проза... Послышалась команда... Правда, была еще красивая картина, когда вся эта тысячная масса обнажила головы «на молитву»... Перед присягой нам было прочтено о двенадцати карах, которые постигают человека здесь, на земле, а священник рассказал о том, что ждет такого человека на небе. Он говорил о любви к братьям... Именем Христа призывает он нас к этой любви, говорил о пожертвовании за другого жизнью (странно как-то! Проповедовать любовь к братьям затем, чтобы в силу этой самой любви больше убивать таких же других братьев – людей!)... Много он говорил в таком роде... Оказывается такому человеку, у которого не хватает силы убивать своих братьев – людей, называемых «неприятелем», очень плохо, как на земле, так и на небе... На земле его или повесят, или расстреляют, а на небе сам Христос, проповедовавший о всеобщей любви, и положивший душу свою за эту любовь, накажет... Мы приняли присягу (целовали крест, евангелие, прикасались к знамени)... Теперь мы старые солдаты... Однако, как это все ловко придумано: у кого есть вера, того можно запугать муками ада, и наоборот, завлечь прелестями рая. А кому этого мало, то того можно и более существенным запугать: тюрьмой, каторгой, казнью... Интересно, что же будут делать с теми людьми, которым не страшны ни земные (а в небесные они не верят) страдания, а так же не дороги и радости, которым дорого торжество их идеи, дорого их нравственное спокойствие (к несчастью, сейчас таких людей мало, но они уже и теперь существуют)... Что же для них-то будут придумывать?...
06.05. (18.05.) 1889 г.
«И скучно, и грустно!»... Да, сегодня мне что-то не по себе!... Чем это объяснить?... Нервы расходились!... Нервы, нервы!... Нет, кажется, с толстой кожей, без всяких нерв в сто раз лучше быть, нежели иметь нервы, видеть такие безобразия в окружающей обстановке и сознавать свое бессилие... Бедный Быльев!... Он сейчас перед моими глазами: бледный, с измученными, страдальческим лицом... Удары сыпятся на него градом, а он стоит и терпит... Вот из его глаз выкатились две слезинки... Господи, как нужно смириться, унижаться!... Нет, это не выносимо!... А удары все наносятся, да наносятся. И кулаками, и прикладами, и ногами... Я только удивляюсь – до какого остервенения может доходить человек!... С точки зрения дисциплины, он сделал громадное преступление: стоя на посту, он выпустил из рук ружье и сам сошел с поста... Зато уж и тяжко же его положение: его не только ругают, смешивают так сказать, с грязью, но и бьют, как какую-нибудь собачонку, чем попадя. Его мучают на учениях, мучают работой, мучают дневальствами... Он состоит в разряде штрафованных, а потому над его головой вечно висит, как дамоклов меч, возможность быть высеченным. Ему нельзя выйти из казармы... И так маяться ему придется еще более двух лет! Нет, я бы этого не вынес!... Как бы хотелось помочь этому бедному человеку, но никакой возможности нет, этого сделать.
Просматривая сейчас свои тетрадки, я остановился на характеристике солдат. Я упустил одну очень крупную черту в их характере, это – слишком большое развитие чувственной стороны. Кажется, солдат не в силах ни одной юбки оставить в покое!... Впрочем, все это понятно: при такой одуряющей обстановке все лучшие качества человеческой души глохнут. В моей памяти встает громадный ряд фактов, характеризующих солдат с этой чувственной стороны... Тяжело там то, что благодаря такому поведению, семейные, супружеские отношения все больше и больше падают и раскатываются... Печально то, что последствия такой ненормальной жизни бывают часто очень печальные... Сифилис здесь уже имеет гнездышко... Я уже не говорю о безнравственных песнях, о сальных анекдотах, о площадной ругани, сильно развращающем образе, действующих на окружающих, еще не искусившихся в этом, людей. Это бы уже, куда ни шло!... Нет, корень этой безнравственности лежит глубже... Эти отвратительные взгляды на женщину, на семью до того въелись в их понятия, что они рассказывают о своих поступках с удивительной легкостью... Например, сегодня Антип рассказывал мне, как он любит баб, как он пропуску никому не дает. Говорил потом о своей жене, с которой жил ладно и мирно, и так же ладно и мирно будет жить по окончании службы. И когда я начал говорить ему о безобразности его поведения, то он даже малость удивлен был этим, а потом даже начал отстаивать свои убеждения... Вообще, этим проклятым адюльтером совершенно проникнут весь воздух, вся казарменная атмосфера... Сейчас мне припомнился очень курьезный случай, который был с нашим взводным унтер-офицером (он ярый противник женского пола). Раз заметил он на улице одну юбку. А он ни одной юбки не пропускал даром... Он сейчас же побежал за нею. Каково же было его разочарование, когда он увидел перед собою довольно некрасивую, рыжебородую мужскую голову. Воображаемая юбка была длинным фартуком, который этот рыжебородый малый надел, отправляясь на работу, так как был каменщик...
8.05. (20.05.) 1889 г.
У меня сегодня было много интересных встреч. Прежде всего, встреча с Ш…. Вот уже три с лишним года я расстался с ним, но, кажется, он остался таким, же неспокойным (в области мысли, но не дела)… Он сильно раздражен, сильно ненавидит… Правда, на это есть свои причины: он за это время перенес очень много огорчений, разочарований, на дороге ему ставилось много преград… Жаль бедного!... Как он искренне был рад нашей встрече! Как он искренне изливал мне свою душу… Я все-таки рад, что он до сих пор крепится, борется… Правда, он уже кой, в чем начал терять веру, но все-таки, вера в главные его идеалы, в умственное и нравственное развитие у него еще не угасла. Не угасла еще и жажда «служения обществу»… Учиться, развиваться затем, чтобы потом сделаться хорошим «слугою общества»… Потом, приход этих двух юношей, наивных, милых, с затеплившейся уж искоркой любви к меньшим братьям… Перед ним только что открывается новый, прекрасный путь, путь выработки прочных основных идеалов всей последующей жизни… Приятно как-то смотреть на эти молодые ростки. Но как-то страшно становиться за их будущее: а вдруг, да гроза налетит или вихрь сломит их, не дав им возможности развиться в могучее дерево, или сорная трава заглушит их… Господи! Как все-таки далека моя казарменная жизнь (или, скорее, пытки) от этой настоящей жизни! Тут надежды, планы будущей лучшей сознательной жизни, а здесь какое-то медленное омертвение, пустота, смрад!... Там – стремление развернуть во всю мощь и ширь, духовные силы человека, а тут, напротив, стремление как немножко больнее сжать их.
14.05. (26.05.) 1889 г.
Три дня тому назад я в 1-й раз был в карауле… Назначили меня в дисциплинарный батальон… Ночь была чудная… Мириады звезд глядели с небесной лазури. Воздух был наполнен запахом только что распустившейся зелени… Веяло прохладой… Со стороны реки ветерок доносил запах речной заросли, вообще, речной сырости… В воздухе было тихо. Только там, вдали, где кипит свободная, вольная жизнь – она не умолкала, и теперь… Из соседней рощи доносились могучие трели соловья. Раздавалось много голосков и других, незнакомых мне птичек… Не умолкали и лягушки с соседнего болота… В общем, все эти звуки слились в гармонический хор… Даже не нарушал как-то этой гармонической тишины неожиданный лай собаки или крик запоздавшего пьяного обывателя Придачи… Все это как-то стушевывалось перед могучим, сильным голосом природы и даже тоже как бы пело с ней заодно… Не то было у нас в тюрьме… Тишина, мертвая, гробовая тишина, прерываемая изредка сильным кашлем заключенных или лязгом открываемой или запираемой двери… Так же светили со своей высоты яркие звездочки, так же был мягок и приятен воздух, но той жизни, которая была там, за стеной, тут не было… Уныло как-то горели лампы в фонарях, тускло освещая квадратный двор тюрьмы, а также и большие корпуса казематов… Уныло так же горели лампы и в самих казематах, освещая только окна с толстыми решетками… Редко, редко промелькнет внутри каземата мимо окна какая-нибудь тень, заскрипит засов и опять все станет тихо… В этой-то обстановке мне приходилось быть 3 часа, притом с заряженным ружьем… Я был поставлен стражем, призванным подавлять в человеке пробуждающуюся жажду свободной, вольной жизни… Чудная природа, окружающая за стеной жизнь, бьющая полным ключом, каземат, ружье с вложенным в него патроном… Как все это гармонично!... Много-таки пришлось в ту ночь передумать… Особенно сильно действовали на ум эти страшные контрасты… Курьезнее всего то, что в это время в каземате сидел Цыртович (студент технологического)… Я, студент горного, стоял с ружьем с тою целью, чтобы преградить путь к вольной жизни такому человеку, как этот паренек!... Да, много-таки страшных, жизненных противоречий приходится переносить в жизни!...
«И не будет на свете ни слез, ни вражды… Ни мочи, ни позорных столбов!»... Как хороши эти слова, но в тоже время, как наивны! Это в то время-то, когда так господствует кулак, когда все лучшие стремления, идеалы разрешаются тюрьмой и заряженным ружьем!... А все-таки, нет, «я верю, в силу добра»… О самой тюрьме и ее обитателях я поговорю как-нибудь после.
Печально, конечно то, что от 1873 года прошло уже 16 лет, а до сих пор еще «желчь на сердце кипит», потому что до сих пор еще почти так же «точки светлые редки и малы», оттого, что «тесно нас охватили неправда и зло»… Говорю «почти так же», потому, что хочется верить, что «к лучшему шаг замечается»… Ведь, неужто 16 лет отчаянной, жестокой борьбы за это лучшие идеалы, которые и теперь еще стоят «в недоступной красе», пропали даром! Нет, нет и нет!.. Я «все ж к лучшему шаг замечаю!»…
16.05. (28.05.) 1889 г.
День моего переселения из города в слободу. Хозяин нашей квартиры – солдат Николаевской эпохи. Он прослужил 8 лет в кантонистах, да потом 15 лет солдатом. Много интересного порассказывал он про прошлую жизнь… Как мучили их, бедных – это страсть!... Сколько порки, битья и ругани приходилось им перенести! Он рассказывал, что часто с учения их отправляли (уносили на руках) в лазарет, где часто многие умирали. Много рассказывал он об их речных учениях. Так, по команде заставляли их бросаться в воду, по команде плавать, нырять, учили их стрелять, приемам на воде (начальники обыкновенно в это время находились в лодках посреди реки)… Плохо плававшим привязывали холщовый нагрудник. На спине к нему привязывалась веревка, за конец которой держался учитель (он, таким образом, мог управлять учеником) в другой руке учителя имелся длинный кнут, которым он исправлял все ошибки своего воспитанника. Наказывали их не только плетьми, но и палками за самые малые провинности. Отдавались туда детишки лет 7-8… Рассказывал он так же и о своей солдатской службе, о походах и драках с горцами и поляками… «А все-таки хорошо на войне» – закончил он наш разговор... Оказывается, он любит войну, любит гром и треск пушек и ружей, любит геройские подвиги… Он рассказывал, что, когда идет в битву или уже находился в битве, то тут забывается все: и семья, и своя личная жизнь, а впереди есть только одно желание – убить во что бы то ни стало врага, не рассуждая, за что, зачем… Да, человеческий образ совсем теряется, а остается одна животная сторона… «А все-таки, на войне хорошо!»… Вот тут и пойми! Первое впечатление дача произвела приятное; кругом зелень, чистый, свежий воздух, пение птиц… Рядом с нашей квартирой помещается школа… До меня среди мирной тишины деревенской улицы доносятся отрывками объяснения учителей, робкие ответы школьников…
17.05. (29.05.) 1889 г.
Я хотел поговорить об обитателях дисциплинарного батальона. Все они, прежде чем попасть в эту обстановку, служили в солдатах более или менее продолжительный срок, так, что это учреждение исключительно представляется для солдат. Впрочем, за последнее время туда же стали ссылать студентов (у нас, например, есть студент-технолог Цыртович). Сажают сюда за различные проступки: за воровство, оскорбление начальства, неисполнение приказа и прочее. Заключение сопряжено с усиленными занятиями и черными работами. Все заключенные переводятся в разряд штрафованных, так что их могут карать. Народ там живет буйный (конечно есть и исключения), который в обиду себя не даст… Тем унтер-офицерам, да и вообще всем начальникам, которые плохо обращаются с заключенными, достается сильно. Так, недавно, например, один арестант зарезал нелюбимого унтер-офицера, но в ожесточенной борьбе и сам был им убит. Потом, недавно один арестант покушался убить ротного, но ему это не удалось (теперь он на каторжных работах)… Говорят, что такие случаи там не редки. Но зато и с ними-то начальство тоже не церемониться. Розги так и жужжат над их спинами. Например, перед нашим приходом в караул, одному арестанту залепили 100 розг (а накануне ему же было залеплено 30)… В общем же жизнь заключенных уж не так плоха, как, например, в тюрьме, в одиночном заключении, и если бы не те страшные меры, к которым часто прибегает начальство (как розги, одиночное заключение), так там жилось бы и не плохо (ко всему этому прибавлю, что арестанты очень не дурно кормятся). Уж за это говорит, например, то, что многие солдаты идут туда без всякой печали… Впрочем, таких мало, так как человеку всегда дороже свобода, а особенно ей должны дорожить солдаты, так как им даже и в казармах-то живется часто как в тюрьме.
Быльев наш соглашается лучше идти в дисциплинарный батальон, чем жить в казарме, да еще при тех условиях, в каких он теперь находится!... Вот вам и вольная жизнь в казарме!... Ее с удовольствием меняют на тюрьму!... На меня лично, все эти громадные здания с решетчатыми окнами, с часовыми при ружьях, с унтер-офицерами с отточенными шашками, наконец, с самими арестантами произвели удручающее впечатление… Почему-то сейчас же как-то вспоминается Христос со своею великой проповедью любви и все прощения, вспоминается все те гуманные прекрасные мысли о любви к ближнему. Любовь, всепрощения – и ружье, отточенные шашки, розги и решетки!... Тяжело, очень тяжело!...
19.05. (31.05.) 1889 г.
Три часа пополудни. Наша улица погружена в мирный сон… Ничто не прошумит. Не покричит… Даже петухи, и те присмирели и только изредка подают свои голоса… Все окна, выходящие на улицу, закрыты или ставнями, или белыми занавесками. Солнце нещадно палит нашу бедную улицу. Да и не одну нашу улицу, а и всю землю-матушку… Все хлеба и травы почти пожгло… Если такая жара продлиться еще несколько дней, то, пожалуй, нас посетит голодный год… Сколько теперь жарких молитв воскликается к богу!... Сколько сердец теперь преисполнено надежды и страха!... Наш Зайцев тоже сильно страдает… Он страстно желает дождя… У него дома засеяно 10-12 десятин земли, и если не будет дождя, то все хлеба погибнут… В этом солдатике не успели еще забить его «крестьянскую» душу… Несмотря на хорошее поведение (с военной точки зрения), он не поглощен совсем военной дисциплиной… Я уверен, из него выйдет прекрасный солдат, он геройски будет переносить все страдания, но как только «все это» кончится, он будет с таким же рвением рваться «домой», «к сохе», «к матушке-землице», он так же будет о ней думать в трудных походах, как он думает о ней теперь… Конечно, и его можно «соблазнить», но на это пришлось бы тратить много сил… Я даже так думаю, что солдатчина только тех отрывает от сохи, от дома, у кого дома нет ничего притягивающего… Вот, например, Антипов. Он до солдатчины страшно много работал (больше всего на чужих), за самую ничтожную плату… У него не было ничего «своего», изнурительный, дурнооплачиваемый труд подействовал на него так, что он теперь совершенно безучастно относится к крестьянским интересам. Его все ближе и ближе поглощает город своими соблазнами, своим «легким житьем». Его мечтою теперь – быть полицейским, или арестантским караульщиком, иметь возможность франтить и т.д. Его уже сильно коснулась «городская» цивилизация…
Я как-то раньше говорил о легком взгляде солдат на брак.. Недавно мне пришлось толковать по этому поводу с некоторыми солдатами. Большинство из них (особенно молодежь), к несчастью, смотрит именно так… Меня немножко только удивило снисходительное отношение к проступкам жен… Мужья говорили, что их нисколько не смущает то, что, быть может, их жены живут теперь с кем-либо другим… Как только мы воротимся, мы опять станем жить с ними вместе… Такое гуманное (или, по крайней мере, терпимое отношение друг к другу мне нравиться: каждый сознает свою вину, а потому и прощает ее друг другу… Конечно, не обходится это и без страданий с чьей-либо стороны… Так, мне вспомнилось наша кормилка… Бессемейная жизнь которой теперь разрушена навеки… Сразу кажется как-то странным такая разнузданность с одной стороны и такая глубокая вера, такое высокое религиозное настроение… Но, когда ближе всмотришься, то увидишь, что религия, вера идет мимо жизни… Уж на что, кажется, религиозен Зайцев (я такого искренне верующего человека не встречал. Сегодня он, например, так искренне рассказывал мне о благости бога, о его всемогуществе, о его любви, не только к нам, но и к животным. Так, он объяснил, что собака воет оттого, что тоже нет хлеба, что своим воем, она возносит богу молитву, что самую верхушку колоса бог создал именно для собак. Он рассказывал многое и другое), так даже и Зайцев, будучи женат, часто поддавался «греху», впрочем, потом он каялся… Или вот тоже. Я сейчас вспомнил Бобровникова. Он у нас ненавидит фельдфебеля больше даже, чем все… Когда он шел на исповедь, я его и спрашиваю – простит ли он фельдфебелю все? Он мне отвечает, что с ним он никогда во веки веков не помирится и потом пошел исповедоваться. И все это он проделывал с искренним благоговением…
25.05. (07.06.) 1889 г.
Сегодня мне пришлось пробыть довольно-таки изрядное количество времени в обществе вольноопределяющихся… Ну, уж и общество!... Пустота, бессодержательность, полнейшая безыдейность!... Эти молодые люди, полные сил, в тоже время нравственно и умственно слишком бессильны!… Ни у одно их них нет не только широкого полета мысли в области высоких идеалов, а даже более или менее честных, добрых мыслей, необходимых для жизненного обихода… Все силы этих людей тратятся на кутежи, разврат… Курьезны их отношения к меньшему брату… На него они смотрят, как на вьючную какую-то скотину, на которой только можно ездить и возить… О чисто человеческих отношениях тут не может быть и речи!... Чем живут эти люди? В чем «смысл их жизни»? Да и знают ли они, что это такое за «смысл жизни»? Скорее всего, нет!... Если бы, хоть раз в жизни они задумались над таким вопросом, наверное, бы он их стал частенько мучить и допекать…
Как эти люди пусты, глупы! Как их бессмысленны слова и как пуста их голова!... Однако довольно о них. Ей богу, все их существование исчерпываются этими строками! Поговорю еще о солдатах. Сейчас мне попалась в руки одна солдатская рукопись, носящая название: «солдатской философии»… Она понравилась мне своей тенденцией. Она дорога, тем более что вышла из рук солдат, этих грубых, недалеких людей, которые, однако, сумели подметить дурные стороны нашего быта. Вот эта рукопись…
«Солдатская философия»
«Солдат, бывший у генерала вестовым, курит трубку и говорит: «Эхма, памяти-то много, да денег ни гроша!» генерал услышал его слова и говорит: «Вестовой, поди, сюда!» Вестовой, придя, и говорит: «Что изволите Ваше Превосходительство?». Генерал и говорит ему: «Что ты такая за умница?» – «На каждый ваш вопрос могу ответить, Ваше Превосходительство» – отвечает солдат. «Ну, хорошо». Генерал спрашивает: «Почему это так, что бог создал весь мир, хранит и управляет им, а мы его на «ты» называем?». «А потому, Ваше Превосходительство, что бог у нас один. Его и называем на ты, а вас чертей, много!». «Послушай, братец!» – говорит генерал – «Тебе за это грех, ты меня этим лично оскорбил!». «Ваше Превосходительство! Где теперь грехи искать? Грех скончался, правда сгорела, правосудие сбежало, добродетель ходит по миру, роскошь сидит под арестом, вера в Иерусалим ушла, надежда с якорем на дне моря, любовь простудою больна, закон на пуговицах у сенаторов, верность у аптекаря на весах, честность у купца на аршине, одно остается терпение, да и то скоро лопнет!»… – «Никак нет, из слов твоих я вижу тебя хватом. Каков-то ты на деле? Знаешь ли ты молитву господне: «Отче наш»? «Как пять пальцев, Ваше Превосходительство, но только я знаю солдатскую, Ваше Превосходительство». Как вскрикнет генерал: «У нас одна молитва господня!»… «А у нас своя, солдатская!»… – «Ну, говори!»… «Извольте, Ваше Превосходительство: Молитва господня. Как солдат в строй вступает, то он страшно вздыхает и говорит: «Отче наш! Румяна заря играет. Рота капитана ожидает, иже еси капитан кричит, шумит, странный голос его слышен на небеси: «Подать палок для солдатских плечей от солнечных лучей да святится»… «Солдат тогда ужасно бьют, а они без пощады клянут имя твое». «Приходит фельдфебель и говорит: "Старайтесь, братцы, стройно ходить, смотреть браво молодцом". «Да придет» – слышны слова капитана – «Царствие твое. Здесь ты царствуешь над нами, а там будешь царствовать над чертями. Да будет воля твоя! Провиант ты получаешь и на деньги меняешь, а у нас отымаешь хлеб насущный! Что царь нам отпускает, даже наш унес… Когда мы перед тобой согрешили и на службу не поспешили остави нам. Вы муку продаете, да нам деньги не отдаете, долги наши. Вы мукой торгуете и песком пербарышуете якож и мы. Если с ротой примиришься, всех удовлетворишь, тогда мы тебе оставляем. Если эту вину забудем, тогда у нас не будет больше должником нашим. Он смотрит на нас сурово, дай нам, боже, другого. И не вводи нас во искушение. Мы рады избавиться от тебя, как от лукавого»…
Вчера Антипов заявил мне, что мои слова на него сильно подействовали (я говорил с ним о семейных его делах, о его невоздержанности на язык), так что он стал даже видеть дурные сны. Он дал мне слово быть воздержанным на язык и просил у меня книжку такую, которая бы могла подействовать на него убедительнее. Я пообещал эту просьбу исполнить. Мы заговорили опять о семье, о его дурном поведении. – «Барин, да я не виноват! Я взял, ведь, жену-то к себе, искал ей место, да разе ее, дуру, будет, кто долго держать… Ну, вот, она и уехала опять в деревню… Я ее и теперь люблю и поеду домой, я опять с ней буду жить. Что же делать, коли ее нет здесь, а я ведь человек же живой, ну, да и она, ведь, мне позволила… Конечно, плохо, об этом нет спору! Да, ведь, и она без меня ребенка родила! И, ведь, я ничего… Пущай… А только любить, я ее и теперь люблю… А как мы жили-то хорошо дома – это страсть! Я ее не только-то бить, а и ругать-то редко ругал».
– «Ну, должно быть, дядька, она у тебя баба-то славная, а то, ведь, без этого нельзя, чтобы бабу-то не бить» – добавил сидевший около нас Тамбовский.
27.05. (09.06.) 1889 г.
Несмотря, на конец мая, у нас стоят страшные холода… По небу низко бегают свинцовые тучи, мелкий осенний дождичек моросит. Дует сильный, порывистый ветер… В палатках страшный холод… Все солдаты в шинелях жмутся друг к другу, чтобы хоть этим немного согреть себя… А дождик все моросит, да моросит… Вот он уже начал проникать сквозь палаточную материю… Его холодные капли уже чувствуются на лице, на руках… Плотнее закутываются солдатики в шинели и дремлют… Вся эта погода очень сильно располагает к дремоте… У нас, в палатке для вольноопределяющихся тоже самое… Мы тоже зябнем под шинелями и плотнее прижимаемся друг к другу… А иногда бывает приятно дремать, закутавшись поплотнее, под шум вьюги, под сыплющиеся мелкие капельки дождя!... В полусонных грезах встают часто очень заманчивые картины… Впрочем, это бывает приятно только «иногда», да и, то только нам, «господам», а не им, труженикам, им некогда мечтать, когда ноют все косточки, когда от холода сжимаются все мускулы, когда зуб на зуб не попадает… Но скоро даже этот приятный отдых прерывается… Нас ведут на стрельбу, в степь широкую, где ветер бушует на полном просторе… Нас лишают даже последней защиты – шинели (начальники все в теплых пальто, фуфайках и мундирах)… Вот мы устраиваем импровизированный костер и садимся около него… Отогретые несколько теплом, мы начинаем заводить беседу… А небо смотрит сумрачно, а ветер злиться все больше и больше, стараясь потушить костер…
– «Вот тебе и хлебушек!» – говорит Зайцев – «Ох, грехов-то, грехов у нас много!... Вот бог-то и карает». «А, ведь, я, кажись» – добавляет он наивно – «Все старался по справедливости, вот хоть на стрельбе бы: ведь, ни одной пульки не по божьи не приписал… А, нет! Бог все гневается»… Пошли толки про хлеба, про погоду, про причины такой плохой погоды… В другом месте завязался другой разговор очень игривого характера (там, наверное, Антипов растолковывал… Кружок этот гогочет… Вот к нам подсел офицер… Все замолчали, молча, подкладывали кизяки, молча, улыбались на шутки офицера… Наконец, теплота подействовала и на офицера. Его душа (и так, от природы не особенно грубая) размякла… Ему вспомнились картины далекого прошлого. Вспомнилось, как он грелся у огня, переправляясь через Балканы, вспомнилось, как он обедал и ужинал под градом пуль и гранат, как истомленный ходьбой, измученный холодом, насекомыми, он падал в сугроб и дремал… Много картин промелькнуло в его воображении. Вот идут они, измученные, по какому-то холмику… Вдали слышится трескотня ружейных выстрелов… На пути попадаются предметы, указывающие на недавний переход войск… Вот лежит закоченевший, скорчившийся труп нашего солдатика, почти совсем раздетого… И такие картины на каждом шагу!... Сердце уже не содрогается при виде этого зрелища: оно привыкло переносить и не такие возмутительные картины!... Ах, их (этих скорчившихся трупов) здесь так много, что, право, на сострадание о них не хватало сил! Там где гибнут десятки тысяч, там ничего не стоят какие-нибудь единицы… Как же нам жалеть единицы, когда мы радуемся, узнав, что какая-нибудь переправа через Дунай стоила нам всего 2000 убитых и несколько тысяч раненых!... Две тысячи убитых людей! Две тысячи загубленных жизней!... У них, ведь, тоже были свои мечты, свои стремления, были свои семьи, друзья!... «Всего только 2000!»… Да, когда же это придет пора, что все люди осознают всю громадность того зла, которое скрывается под этим славным словом «Война»! … Бедные, они до сих пор еще верят в святость поступка, выражающегося интересом жизни одним человеком у другого… Эти чистые души часто наполняются огнем негодования против людей-братьев, таких же добрых и честных, как они сами…
Раз как-то Зайцева, это добрейшее существо, спросили, что он сделает с умирающей турчанкою, захваченную им при взятии какой-нибудь деревни, если бы она попросила у него пить? Он ответил, что зарубил бы ее… И так ответили многие из его товарищей… И так отвечает тот, которому, кажется, никакого дела нет до этих турчанок, у которого в голове одна только и есть думушка о земле, о ржице»… Когда я пишу эти строки, этот самый Зайцев бежит вовсю мочь в свою деревню (его отпустил ротный), чтоб посмотреть «свою землицу», «свой хлебушек»… А, ведь, будь только война, он будет геройски убивать «турку» (все враги носят у него одну общую кличку), он и сам, пожалуй, погибнет под ударами этого «турки» и таким образом будет включен в число тех «только 2000 тысяч»… Хотел я, было поговорить сегодня о том офицере, да теперь уж поздно… Оставлю до другого раза…
29.05. (11.06.) 1889 г.
Сегодня я был на родине… Скучно там! Скучно, как в своей семье, так и в окружающей жизни… Жаль бедных стариков с непонятными для детей порывами и стремлениями… Бедные! Дождались они детей и ни одного почти не видят целые годы… Их главная мечта – собрать всех под одно крылышко, в одно гнездышко – не удалось, да и не удастся: времена не те! Еще тяжело становится им оттого, что дети их совсем иначе относится к вещам: то, что для них, для стариков, дорого, дети почти ни во что ставят… Тихо, грустно проходят дни… Особенно жаль бедную маму! Она вечно одна. Ночь… На улице ни души… Собака где-то лает, да шумит какой-то местный обыватель, изрядно подвыпив… В комнатах тихо и темно. Только зал, да спальня тускло освещаются лампадками. Маме не спится в мягком пуховике… Она одна в комнате (отец и брат ушли в клуб)… От бессонницы она начинает думать… Думы же, конечно, вертятся на одном месте: что-то с детьми?... Вот мечтала она когда-то вырастить своих деток, да посвить им гнездышко… А жизнь-то сделала совсем другое: одного забросила за тысячи верст, другого дальше и т д…. Одна одинешенька с своими горькими думушками, да со слезами… Да и дети-то вышли какие-то чудные… Они как будто и добрые, да все-таки чудные… Она уверена, что дурного они никогда не сделают, но в тоже время они совсем не такие, как у других… И не боятся родителей, и вспылят-то они… И чего, чего ей, бедной, не придет в голову, хотя она хорошо знает, что любят и ее и отца дети. Вот уж и слезы навернулись… А тут и опять думки: здоровы ли? Целы ли (ведь, теперь ишь, какие времена-то пошли!) и т.д., и т.д…. Зато как радостно забьются их старческие сердца, когда под их кров соберутся со всех сторон их дети!... Правда не особенно часто это бывает, чтобы все-то зараз собирались… Мало радостного и в окружающей жизни: бедность, горе, голод!... Тут неурожайный год… Рожь плоха, просо совсем никудышное, сады плохи… Опять горе, убытки! Следствием воровство, грабеж, пьянство (а под пьяную руку и убийства), а там острог, Сибирь, каторга!
Недавно мне пришлось услышать два таких факта (это к области просвещения относится): в одной деревне нашего уезда (Голодовки, кажется) в церковно-приходской школе учитель (дьякон) запирает на замок детей в школе, а сам уходит в гости или занимался своими делами. А в другой деревне (Студенка) поп специально занимается пропагандою, возбуждающею народ против школ. Он добился того, что в Песковатке закрыли школу, теперь того же добивается и здесь…
Из моих разговоров с солдатами о политике. Когда я рассказывал солдатам о политическом строе Франции, о том, что там обращается серьезное внимание на мнение народа, один из солдат (Антипин) заметил, что у нас все-таки лучше: хоть и дурен министр, а все-таки его слушай… Царь-батюшка приказал, и ладно!...
02.06. (14.06.) 1889 г.
Тоска, тоска и тоска!... Опять мой недуг!... Опять он омрачил дно моего существования!... Нет, так, ведь, нельзя!... Это, ведь, в конце концов, приведет к сумасшествию, вообще, к преждевременной смерти… А умирать не хотелось бы, притом так глупо умирать!... Жить! Полной грудью дышать!...
Мне опять пришлось быть в карауле, в дисциплинарном батальоне. И опять-таки ночью… Ночь была такая же тихая, светлая… Теперь я мог даже разобрать лица… Так, я видел Цыртовича. Он был так же, как и все, одет в солдатское платье. Его положение в дисциплинарном батальоне, сравнительно, недурно. Он состоит писарем своей роты… Скоро наступит конец его подневольному положению… Новость (довольно старая, впрочем, для батальона) – одному заключенному дали 100 розг за то, что он пошел на обед по приказанию дежурного по роте (когда мы сменяли караул, мы еще застали кучу обломавшихся веток). Теперь в дисциплинарном батальоне поступил новый батальонный командир, который, хочет «подтянуть» его… Очень возможно, что это «подтягивание окончится очень печально: ему батальонный командир проломит голову… К слову об офицерстве… Мне недавно пришлось познакомиться с литературными произведениями офицерства Можайского полка… Все стены офицерской гауптвахты исписаны произведениями этих господ… Прежде всего я заметил большое скудоумие, а так же большое однообразие в мыслях и чувствах…. Стремление к остроумию, но полнейшее отсутствие в их произведениях, а подчас переход этого остроумия в пошлость, шарж… Я нашел всего только 2-3 мало-мальски порядочные мысли. Главным отправным пунктом всех их мышлений являются женщины, отношения к которым здесь и описываются во всевозможных видах…
В то время как я пишу эти строки, в соседней комнате кричит, заливается малолетний мальчуган (хозяйский сын). Вот уж больше двух недель он болен. Мать лечит его своими средствами, то она «протаскивала его через дубок», для чего специально таскала его в ботанический сад. Оказывается это средство бессильно исцелить этого бедного страдальца. Тогда они придумали другое средство. Какая-то умная кума нашла, что у младенца «распят в спине волос», оттого, что мать этого ребенка, будучи беременной, ударила ногою кошку, а от этого есть только одно средство – «катать по его спине мягкий, горячий, только, что вынутый из печи хлеб. А потом бросить этот хлеб на крышу дома, чтобы птицы склевали его»… Поймите что-либо в этом! Найдите логическую связь между кошкой, которую ударила беременная женщина и горячим хлебом, гуляющим по спине бедного страдальца!... Я не ожидал встретить теперь и такую глушь беспросветную!... Когда я стал говорить о докторе, то она стала отговариваться отсутствием свободного времени и т.д. (недоверие к силам врача здесь не было – все-таки прогресс!).
05.06. (17.06.) 1889 г.
Наконец военная служба начинает тяготить меня!... Эти «стойки», «равнения» и т.д. ужасно пригнетают нравственные чувства!... Хочется других впечатлений, более живых… Встречи с полковником и другими начальниками, приводящих в сильное волнение по причине своей неприятности и по многим другим причинам, тоже довольно-таки много крови поперепортили… Скорее бы, скорее новую обстановку, полную жизни, сознания, не такой мертвящий застой, не такая придавленность всех нравственных чувств!... Видеть и перечувствовать все те гадости, которые так и бьют, так и стремятся мозолить глаза, очень тяжело!... Чем больше присматриваешься к этой жизни, тем все более и более убеждаешься в ее невыносимости, ее пагубности…. Смотришь на людей и не находишь возможности на ком остановиться!... Так называемый "класс общества", представляет очень печальное явление… Здесь нет даже таких людей, которые бы наряду со своими личными интересами, вспоминали иногда интересы людей поставленных в более тяжелые условия, людей почти без всяких прав… Здесь даже гуманность-то переходит в какой-то индифферентизм, а справедливость ограничивается строгим формализмом… Но прежде всего все-таки, грубый эгоизм… Вот батальонный командир. Он получает довольно порядочное жалование. Поселяясь в лагерях, он хочет как можно меньше тратить, поэтому, например, не заказывает обед в собрании, а каждый день посылает в город солдат своего батальона (верст, значит, за 5-6!), создавал, таким образом, для солдат еще новую обязанность… Взгляд на солдат у этих господ очень своеобразный: они не хотят видеть в этих людях «людей», а только вьючных животных, способных только на работу, на физический труд, который, конечно, только и должен приноситься в жертву этим же господам… Мне сейчас вспомнился такой факт. В наш полк поступает новобранец один - кондитер. Начальники пронюхали про это и стали брать его нарасхват, пока не узнал об этом полковник и не забрал его к себе… Или хоть история с Зайцевым. Батальонный очень хотел забрать его к себе, но только благодаря нашему капитану, он и остался в роте.
Теперь поговорить об отношениях к денщикам. К несчастью, я, поэтому предмету знаю не очень много… Могу, впрочем, сказать, что у нас нет таких извергов, как существовали (да и теперь кой-где существуют). У нас жены начальников не убивают денщиков тарелками, не избивают физиономий в кровь и т.д…. Но у нас тоже существуют курьезные отношения. Так, полковница сажает в карцер своих денщиков. Жены офицеров тоже часто мудруют над ними. Например, у одного офицера за один год перебывали пять денщиков. Работы на них взваливают, конечно, очень много. Так что, почти никто из начальников не имел наемных слуг. Отношения между ними установились такие же, какие существовали во время крепостного права. Офицеры – это своего рода помещики, а денщики – это дворня… Среди денщиков часто встречаются типы (довольно характерные) искренних холопов, верных своему господину, как и совершенно противоположные типы. И последние даже встречаются в большем количестве, а первые постепенно вымирают. Подхалимство, лесть, ложь – все это сплетается до того крепко, что трудно бывает все это разъединить и очень часто всем этим такого сорта люди одурманивают головы наших «помпадуров» и довольно-таки сильно их эксплуатируют… Пример наш батальонный… Кстати, еще поговорю об офицерстве… Вот некоторые интересные черточки характера батальонного… Он любит подлизываться, когда ему есть нужда в людях. Так было со мной, когда я чертил ему планы и составлял списки. Когда все это было исполнено, отношения наши изменились в худшую сторону: прежние услуги были скоро забыты. Еще черточка – он трус и в силу этого обстоятельства, он часто делает крупные глупости, часто очень тяжело отзывающиеся на спине солдат. Еще черточка – в силу своего эгоизма он совершенно игнорирует интересы большинства, сильно страдающего от преследования им исключительно личных интересов. Он как-то забывает видеть в солдатах – людей. Но есть еще курьезнее офицерство. Пример – подпрапорщик. Он вышел по 3-му разряду (говорят по той причине, что, будучи юнкером, он стянул у товарища 10 рублей). Он любит пить водку и никогда не обращал внимание на общество, в котором ему приходится пить… Он любит занимать в долг деньги (большею частью, не отдавая их). Часто пользуется своею силою для произведения какого-либо незаконного поступка (мне вспомнилась история с вольноопределяющимся и отнятием порций мяса у денщика). Впрочем, говорят, он теперь изменяется к лучшему. Курьезнее всего совмещение в этом человеке самых радикальных мыслей и идей с самыми кулацкими (и жульническими) замашками!... И он умеет подчас очень красиво говорить об очень интересных вещах…
06.06. (18.06.) 1889 г.
Однако я не на шутку начинаю мучиться, страдать (нравственно, конечно), благодаря моей службе… Мне так страстно хочется уйти на волю, та страстно хочется быть далеко, далеко от этого мира!... С каким нетерпением я жду всегда, субботы, чтобы хоть на день отдохнуть от всех этих треволнений. Я считаю часы, жду и не дождусь момента, когда будет можно уйти из лагеря на квартиру… Когда же это, правда, развяжутся крылья у сокола? Поскорее бы!... Сейчас мне вспомнился образ недавно пришедшего новобранца. Он долгое время скрывался, но наконец, был все-таки пойман, посажен в тюрьму и уже оттуда был препровожден в наш полк. Он поляк по происхождению, очень юный, на вид довольно симпатичный. Да, служба его очень страшила (да и до сих пор еще страшит), так как даже и теперь еще часто, во время занятий, по его добродушному лицу катятся крупные слезы… Что это? Грусть ли по прошлой жизни? Страх ли за будущее? Я не разгадал, но, все-таки, мне более сдается, что тут, прежде всего, фигурирует страх… Этому бедному юноше из стен одной тюрьмы пришлось перебраться в другую (нисколько не лучшую) тюрьму.
Мне сейчас вспоминаются другие «печальные тени»… Вот Гриша-«дурачок» (даже батальонный его завет «Гришей»)… Бедный! Сколько он перенес побоев за это время!... А за что, спрашивается? Да за то, что бог уродил его таким неудачником… Били его и со злости, били и ради измывательства, били на разные лады… Вот он стоит – худенький, тщедушненький, в оборванном мундире («Черока») перед унтер-офицером… На его добродушной, глуповатой физиономией, всегда озаренной глупою улыбочкой, сегодня ярко написано удовольствие: он в 1-й роте сегодня попал 2 пули из 4-х (его даже батальонный за это похвалил!)… Теперь он состоит при лазарете сторожем, так что ему уже не приходится переносить колотушки из-за дисциплины…
А вот и еще – Плотников… Это уж совсем идиот… А сколько ему приходится переносить колотушек, так это даже нельзя себе хорошенько и представить! Его, кажется, в конец уже забили: если чего и было, так в казарме все по вытрясли… На него теперь смотрят, как на вьючное животное, способное переносить безмолвно всякие страдания и лишения. И таких «убогих» людей у нас много в роте!...
Мне сегодня опять что-то не по себе!... Тоска какая-то безотчетная, грусть безвыходная наполняют душу… Хочется чего-то… Чего? И сам хорошенько не сознаешь!... «Чего хочу? Чего? О, так желаний много! Так к выходу их труден путь!»… Меня еще вчера посетило такое состояние… Ночь была тихая, тихая… Воздух был наполнен запахами распускавшихся цветов…. Вся окружающая природа располагала как-то так, «особенно», вызывала массу неопределенных стремлений и желаний… Хотелось, мучительно хотелось испробовать личного счастья, «женской ласки»… Хотя, все это скоро заменялось рядом и других желаний… Часто являлась мысль, что «грезы личного счастья надо проклясть! Но с другой стороны голос шептал, что я не в силах этого сделать…
16.06. (28.06.) 1889 г.
Давно-таки я не писал ни одной строчки в моих тетрадках!... Не досужно было, да и так как-то не писалось… На меня за эти дни сильно-таки «накатило», говоря оригинальными словами Жана… А кто в этом виноват? «У судьбы не допросишься?»... Однако начну записывать интересные факты (если они только интересны)… Вчера я познакомился с одним офицером (я давно-таки хотел с ним познакомиться, да все как-то случай не выпадал). Человек этот кончил курс в высшем сельскохозяйственном учебном заведении. Что заставило его переменить карьеру, трудно понять… По его словам тут серьезную роль играли семейные обстоятельства, материальные средства и т.д. Разговор наш, конечно, вертелся на почве «военного вопроса»… Он «радовался» за меня, что я не хочу идти по дороге повышения чинов с подпрапорщика до полковника и т.д. Он говорил мне о своем тяжелом нравственном страдании, которое он переносит, благодаря существующему разладу между его идеалами и действительностью… Может быть, это и правда, но, я не знаю, мне как-то не верится в его страдания… Быть может, тут большую роль играет, то сильное предубеждение, которое у меня существует к военным людям… Поживем, увидим… Мы имеем теперь уже много тем для разговоров. Надо будет, как-нибудь ими воспользоваться… Я так думаю про этого человека, что у него «совесть не чиста», ну, она-то и заставляет его часто успокаивать себя словами, но и только… Года два тому назад он был студентом. У него, наверное, в голове роилось «много дум», да и «в сердце, наверное, был «огонь», да он только скоро погас, так как с этими «несбыточными мечтами» в ярую борьбу вступил «здравый смысл», «жизненный опыт», ну и, конечно, практика пошатнула теорию… На сцену выступил новый жизненный побудительный импульс – «карьера»… Идеалы стали постепенно удаляться, тускнеть, а «здравый смысл» крепнуть и развиваться…. Вот, порою и является некоторое «щемление»… А тут еще студент-солдат является ярким укором… Ну, и открывается сердце перед человеком, с которым, как будто (именно, только «как будто»!), еще есть что-то общее, тем более, когда окружающая жизнь очень скучна и однообразна… Так что, пожалуй, в тот момент, когда все это говорилось, оно и было искренно, но только именно в этот момент… А мучительны, должны быть такие моменты, особенно, когда человек, испытывающий их, в общем, все-таки хороший. Он сильно будет страдать, пока не разорвет тех пут, которыми связаны его соколиные крылья… Есть ли у моего нового знакомца «соколиные крылья», я пока еще не могу сказать ничего утвердительно, но мое «внутреннее убеждение» подсказывает мне ту мысль, что это совсем даже не сокол, а самая заурядная птица… Мне часто приходилось встречать среди знакомых студентов людей такого типа, т.е. самых заурядных, хотя и получившим «аттестат зрелости»… Те возвышенные идеалы, на которых воспитывается лучшая часть нашей молодежи, затронули их, но затронули так «слегка», у них свои идеалы, отзывающиеся на.
И нельзя сказать про людей такого типа, что они очень плохи, нет, и среди них появляются личности довольно добрые, гуманные, хотя, в общем, все-таки, люди эти, в силу ли склада их ума, воспитавшей и взлелеявшей их среды, очень и очень узки… До сих пор мое «внутреннее убеждение» (нравственное чутье) меня еще ни разу не обманывало. Не знаю, как-то выкажет оно себя в данном случае. Дай бог, чтобы я ошибся!.. К слову о такого рода людях я сейчас вспомнил нашего ротного командира… Он не глуп, правда, не очень сильно образован, но и не невежда. Он очень добр, гуманен, мил. Но все эти качества как-то затушевываются среди его жизненной обстановки… Будучи добр от природы, он под час делает очень некрасивые вещи (конечно, не сознавая, что они некрасивы)… Его душу не волнуют те «забытые слова», за которые так страдал наш великий писатель, да он даже вполне искренно может сказать, что такие слова вряд ли и существовать-то могут… В тоже время, он не прочь вполне искренне порадоваться с истинными друзьями человечества всякому новому шагу на пути прогресса, но только порадоваться… У нашего ротного теперь на первом плане – семья: жена, ребенок, в этом слове, как в фокусе, сконцентрировано все его помыслы, желания, мечты. Сюда кладет он всю свою душу, всю свою жизнь…
Сейчас мне хочется набросать маленькую жанровую картину, характеризующую наши Палестины. Наш хозяин, бывший обер-кондуктор (а еще ранее солдат и контанист), прослуживший 18 лет на железной дороге, получивший два увечья, был прогнан Правлением железной дороги за «посторонние доходы». С горя он начал пить (у него хватило самолюбия только на то, чтобы оскорбляться, а когда он пользовался «посторонними доходами», он не имел самолюбия), а это повлекло за собою новые расходы, которые все более и более увеличивались. Надо было искать средства для жизни. Средства были одни – это труд. И вот он подает просьбу на железную дорогу. Потом ему посоветовали подать просьбу Николаю Николаевичу старшему, который когда-то собственноручно надел ему на грудь георгиевский крест. Это-то прошение и послужило поводом для знакомства с одним очень интересным субъектом, оно же послужило и началом одной комической, но в тоже время и трагической истории… Но до другого раза…
Субъект этот – высокий, тонкий, рыжеволосый господин, с одутловатым (от частых выпивок) лицом, явился к нему с предложением написать прошение. Он отрекомендовался студентом. Прочитал одно из своих собственных произведений по части крючкотворства (надо правду сказать, прошение, в котором он обелял какого-то негодяя, как он сознался в этом потом сам, было написано очень недурно). Прошение было написано и отослано, но он, однако не переставал бывать у него. Раз он приходит к хозяину и сообщает про то, что ему находится место у одной генеральши в имении (в Усманском уезде), что завтра или послезавтра приедет ее конторщик, с которым он и переговорит обо всем. Дня через два явился конторщик (на вид мне он показался очень подозрительным господином). Он распространялся об имении, об удобстве службы, о своей силе и власти там довольно сильно. Соблазнял нашего хозяина «безгрешными» доходами кроме жалования… Вообще увлек и обворожил хозяина. Во все время разговора он со своим товарищем (адвокатом) не переставал пить и есть все, что было так любезно выставлено растроганным и обрадованным хозяином. Конторщик желал выразить расположение и доверие к новому приказчику, оставил ему записку, по которой он должен был получить из одного магазина 2 ящика с товаром. Странным показалось только то, что этот самый конторщик, ворочавший большими суммами, не умел почти совсем писать, а еще странно было то, что он попросил у нашего хозяина в займы 1 рубль. И когда тот отказал выдать такую сумму, то стал торговаться и дошел до 30 копеек. Но хозяин даже и этого не дал ему, ограничившись только выдачей ему денег на папиросы.
19.06. (01.07.) 1889 г.
Эти строки посвящаются вам, дорогие, милые люди, так рано погибшие в борьбе со злом и неправдою!... Как живой рисуется сейчас передо мной образ твои, М.! вот ты, низенький, несколько сгорбленный, с прищуренными глазами, вооруженными большими очками, оживленно споривший с такими же, как и ты, искателями правды, святых идеалов… В спорах ты также увлекаешься, как и во всяком деле… Твоя живая «беспокойная» натура не могла ни на минуту успокоиться… Она рвалась к свету, не разбирая того, можно ли так скоро осветить то громадное темное пространство одним светлым огоньком… Ты ярко вспыхнул, но и скоро погас, но в этом громадном царстве тьмы ты был только одной маленькой светлой точкой! Ты долго боролся… Пламя это давно стремились затушить, но все как-то не удавалось… Но вот пробит час… И ты погас окончательно… Такой живости натуры мне не приходилось видеть давно… Много людей мне приходилось видеть и знать из этой категории «отверженных»… Много из них «изменили» и «продали шпагу свою», в силу житейских расчетов, в силу других причин личного характера… Но о каких и говорить не стоит… Другие, имея в сердце все те же идеалы, начали тоже понемногу изменяться, «применяться к среде», «к обстановке», основывая свои временные отступления на пословице: «с волками жить, по-волчьи выть»… Погружаясь все более и более в «тину нечистую», они и не заметили, как постепенно эта тина приставала и к ним, и загрязняла их… «Среда» «заедала» всех в большей или меньшей степени, свой отпечаток она клала на всех людей… Конечно, люди сильные волей, не поддавались ей и скоро стряхивали ее, но люди слабые, бессильные (или же в том числе) сильно попадали под ее влияние и часто совсем гибли… Мучительнее того состояния, которое испытывают такие люди, вряд ли можно и представить себе: честный, прекрасный человек, сознающий глубокий разлад между «словом и делом», сознающий так же невозможность уничтожить этот разлад – может ли что-либо быть мучительнее такого состояния?... М. не принадлежал ни к одному из этих сортов людей: он был вечный борец за светлые идеалы, он никогда не шел на примирение с окружающею жизнью, коль скоро она не подходила под выработанные им идеалы… Так, будучи в изгнании, он не «не замолкал», не «справлялся», а часто даже нарочно раззадоривал себя, чтобы только «не уснуть», не поддаться влиянию среды, начинавшей уже «примирять»… Он не только подбадривал себя, но старался поднять «упавших духом в тяжкой борьбе» товарищей по общему делу.. Он вечно был неспокоен. В тюрьме он ссорился с тюремными властями, отстаивая свои права. В ссылке он объединял товарищей и опять же твердо отстаивал свои права… Конечно, все это не проходило ему даром, он не унывал, «не успокаивался»… От его писем веяло жизнью, сильною верою в правду, не смотря на окружавшую его вечно неправду… Жизнь его, наконец, надломилась («сила солому ломит»): он теперь погиб на веки… В тот момент самый, быть может, когда я пишу эту строчку, он лежит в страшных мучениях от полученной им раны в грудь… А, быть может, его уже теперь и в живых не стало… Быть может, он также лежит теперь в земле, как и те его товарищи, которых «я» (не лично я, конечно, а мои братья по оружию, не по своей, конечно, воле, а по приказу высших начальников) убил… Вот разгадана загадка, вопрос всей жизни и чем же?.. Штыком! Так скоро и так… Отвратительно!... Жил человек, боролся, мучился, мечтал создать что-то великое, честное и какой-то маленький штык сразу прикончил все… Господи, какая масса противоречий у нас в жизни!... Тот самый человек, ради которого М. трудился, которому на жертву отдавал все, этот самый человек, берет ружье и убивает своего защитника, исповедуя в тоже время ту заповедь, что убивать людей грех… Кончу старое.
Результат всей этой истории был таков: люди эти (конторщик и адвокат), ходившие ранее каждый день и обязанные было являться для того, чтобы отправиться вместе к помещице, вдруг исчезли. Хозяин поехал один и, конечно, никого не нашел. Генеральши Белозерцевой там и в помине нет. Теперь эти господа уже не являются в наши Палестины. Адвокат хотел было познакомиться со мною. Отрекомендовавшись студентом петербургского университета, юридического факультета (он даже показал мне какой-то подозрительный бланк, выданный из больницы на имя какого-то студента, он начал распространяться на ту тему, как скверно положение административных ссыльных (он, якобы, тоже административно высланный за студенческие беспорядки), но скоро замолк, так как не видел с моей стороны сочувственного отношения), обещаясь, впрочем, потом как-нибудь рассказать всю эту историю в подробности… Но судьба нас, кажется, не сведет больше, так как в наши края теперь уже страшно заглядывать… А, ведь, это интересно довольно-таки: в данное время появилось много такого сорта людей, которые эксплуатируют те добрые чувства граждан российских. Главное-то интересно то, что эти господа не только боятся носить кличку поднадзорного, не только не страшатся отчуждения, но напротив, видят даже в этом верный кусок хлеба, знамение времени!...
26.06. (08.07.) 1889 г.
«И безумно, и мучительно хочется счастья,
женской ласки, и слез, и любви без конца!»…
Как ни смешно, а надо признаться – и я начал сентиментальничать. Нет, тяжело «грезы» личного счастья проклясть!... А хочется этого счастья страстно!... Часто в грезах рисуются чудные образы, чудные картины, вспоминаются милое старое прошлое… Хотя, правда, этих милых картин у меня было очень мало, но они все-таки были… Как сейчас помню, на дворе было очень пасмурно (хотя и был июль)… Уже вечерело, когда мы (нас была большая компания) добрались до дома одной знакомой… Впрочем, нет, начну с того, как впервые сердце мое было согрето этим чувством. Это было года 4 тому назад. Я был студентом 1 курса. Уже начинались каникулы… Меня страстно тянуло домой: хотелось поскорее увидеть всех своих (а главным образом, конечно, ее). Незадолго перед этим я получил от «нее» два письма. В этих письмах «она» говорила о том, как ей хочется повидать меня, как ей будет приятно увидеть все таким же Федей, каким она год тому назад оставила меня. Что, несмотря на то, что много воды утекло за этот год, она находит между нами все больше и больше общего… Ах, как ей хочется поговорить со мной, обменяться мыслями и чувствами!... Все эти письма были свежи, юны. От них так и веяло песней весны… Как сейчас помню, один из листков этих милых писем… Светло-голубой листок с букетом ландышей в левом углу… И как это гармонировало с самым содержанием письма! Как хорошо звучали в нем призывы к дружбе, к искренности!... Не знаю, быть может, только потому, что это уже прошло, мне все это рисуется в каком-то чудном, розовом цвете… Мне как-то становится мучительно больно за потерянное счастье, за то остывшее теперь, а когда-то бившее ключом стремление к счастью, к жизни… Теперь же нет того восторга, того энтузиазма, что было ранее, теперь уже нет бурных страстей, которыми была объята моя душа… Да, теперь уж того нет!... Но почему так? Неужто устарел? Как ни смешно, а надо признаться, что не малую долю здесь играет и старость! Главным же образом здесь повлияла жизнь с ее новыми и новыми вопросами… Личное счастье теперь как-то отодвигается все более и более на задний план, а если и появляются когда «приступы», старения, их изгнать… А бывают все-таки, не смотря на все старания, и теперь такие приступы… Таково, например, теперь мое состояние… Я знал В. (буду звать ее только одной буквой) давно. Я еще совсем мальчуганом познакомился с ней. Дикий, застенчивый медвежонок, я часто приходил в смущение при столкновениях с ней… Она смотрела на меня, как на ребенка (да я и на самом деле, по наивности своей был тогда чистый ребенок)… Мы скоро подружились с В. она была живая, веселая девушка. Ее высокий рост, стройный стан, милая головка с чудными глазами хоть кому могли вскружить голову (да оно, кажется, так и было: у В. было много поклонников). Особенно в ней хороши были живость, энергия и даже некоторая доля эксцентричности, которой она обладала, не только не портили общего приятного впечатления, но, напротив, еще более располагало в ее пользу… Не чужда была она и доли милого кокетства, но даже и это ее нисколько не портило… Мое спокойное, ровное чувство к В. не нарушилось ничем: я любил ее, как друга, как хорошего товарища, у меня еще и в помыслах не было сгубить этот взгляд в более узкую рамку… Так продолжалось до первой катастрофы… Между нами произошел разрыв, но он продолжался не долго, так как В. вполне поняла мою невиновность, мы опять стали друзьями. Но здесь уже к дружбе привязалось какое-то новое чувство, еще туманное, непонятное (главным образом для меня)… Но вот настал и конец моей школьной жизни… Я был уже свободный человек: у меня в руках был аттестат… Первые проблески сознательной жизни, выражавшейся в мечтах о высшем учебном заведении, о студентах, о саморазвитии, о будущей деятельности, приятное чувство свободы, все это переплеталось в такую чудесную гармонию счастья, что этого и выразить нельзя… Начались прощальные дни… Катания на лодках до рассвета, встречи восхода солнца в поле и т.д., и т.д…. Господи, сколько тогда было веселья! Мы с В. постоянно были вместе… Я уже начинал сознавать, что то странное новое чувство, которое я заметил ранее, начинало расти все больше. Так, помню во время одной поездки, В. была особенно весела. В лодке с нами сидел один студент, бывший героем дня в нашем кружке. В. особенно мила была с ним… У меня в душе уже зарождалось новое чувство ревности… Мне было завидно смотреть на этого счастливца… Зато бывали и тогда у меня счастливые минуты… Но вот прошел и еще год: В. поступила на курсы, а я в институт… Вот с этих-то пор и началась милая пора…
Вот и каникулы, вот и милый Воронеж, а вот и тот милый домик, с его милыми хозяевами… Я вхожу, меня радушно встречает старушка мать. «Ее» нет. Я жду, стараясь сдержать волнение… Но вот и она!... Входит она живая, веселая… Ах, как мне хотелось обнять, прижать к груди эту милую девушку, но я сдержал свой порыв… Начались спросы, расспросы, толки, шутки… Потом пошли гулянья, катания… Я неотлучно был при В…. Мне так страстно хотелось быть при ней, как, ни можно ближе… Мне хотелось гладить, «голубить» эту хорошую головку, хотелось целовать эти милые ручки, глаза… И я гладил эту голову, я целовал эти руки, я обнимал этот стан!
Раз мы в компании читали Байрона: Чайльд-Гарольда. Я помню только тот момент из этого вечера, как я впервые пожал ее ручку… Помню, как я прикоснулся к ее головке… Я целовал руку…
…«В ясны очи глядел. Расплетал, заплетал русую косынку ей, целовал-миловал»…
Особенно помню я один день… Мы собрались у знакомой… Мы были все веселы, так как все были здоровы и счастливы. Так как все чувствовали, сознавали в себе жизнь… Нас не смущали тучи, не смущал ветер, мы были веселы… Песни, танцы перемежались с оживленной беседой и стихами… Вот полился дождик… Мы скрывались в комнатах. В. села в одной полутемной комнате… Я был мрачен, так как в моей голове появился опять ряд сомнений… Но вот она позвала меня, она шепнула мне слова участия… Я не выдержал, бросился к ней, я душил ее в своих объятиях… Вся страсть молодой души, накипевшая за это время, бурным потоком полилась наружу… Мы не слышали, ни грома, ни шума падающего дождя, не видели блеска молнии… Мы были счастливы… В других комнатах шел оживленный разговор, прерываемый хохотом, а мы сидели в уютной комнатке… Но вот миновал порыв, страсти улеглись, разум вступил в свои права… Я очнулся от чудного сна… Дождь перестал… Луна высоко взошла… В углу сидела В. Ее глаза блестели, грудь высоко вздымалась… Я сидел у ее ног… Ах, как скоро отлетел этот сон!... Все это скоро миновало… В. теперь уже нет здесь. Вот уже 3-й год я ее не вижу (да и не знаю – увижу ли). Странный у меня характер!... В тот самый момент, когда «счастье было так близко», меня посетило раздумье. Мне вспомнились слова поэта:
В наше время… Нужно гордые силы И владеть закаменелой душой… Быть готовым без стона, без крика,
Под ударами вражьими нас В битве грозной, безжалостной, дикой счастья.
И я их проклял… Быть счастливым, «когда вокруг звучат рыдания», я не мог… Мне было совестно, даже было страшно… А тут еще являлся и другой вопрос: «да, подлинно, люблю ли я ее так сильно, страстно?... А вдруг это «не любовь, а мираж любви»?... И вот начал роиться ряд сомнений… Страх за разочарование меня сильно мучил. По многим примерам я знал, как тяжело отзывается разочарование на заинтересованных лицах. Мне не хотелось оставлять страдания любимому человеку, и я… предпочел лучше отречься от счастья… Мы долго толковали, поэтому поводу… В. не согласилась со мною, но я все-таки остался при своем… Теперь мы друзья!...
Вот мой первый, но, кажется, и последний роман… Много девушек мне приходилось встречать на своем пути, но, ни одна не производила на меня такого сильного впечатления… Правда, я часто увлекался, но, именно, только увлекался… Угар этот скоро проходил, и я опять оставался сиротливым… Сколько я не припоминаю фактов из моей прошлой жизни, нигде увлечение не играло серьезной роли. Оно появлялось или в силу ошибки, или от скуки, бессодержательности жизни (бывали у меня такие моменты), но все эти увлечения до тех пор и существовали, пока они носились только в умах, в теории. Как только практика жизни их касалась, то они сейчас же становились несостоятельными… Да, истинно я любил всего один раз, да и не знаю, буду ли кого любить. Когда-либо… Меня судьба столкнула с подругою В., такой милой, хорошей, как и она… Меня, теперь начинает частенько тревожить вопрос об отношении к ней. Я чувствую большую к ней симпатию… Мне часто даже является вопрос: не люблю ли я ее… Впрочем, такой вопрос является только временами, так как я способен больше к ровной, спокойной жизни, нежели к кипучей, бурной… Я люблю ее, как подругу, как товарища и в таких отношениях к ней я, наверное, останусь на всю жизнь… Однако, довольно, об этом. Я, кажется, уже слишком разболтался на эту довольно щекотливую тему….
28.06. (10.07.) 1889 г.
Всю эту неделю мы гуляем, благодаря смотру корпусного командира… Наконец-то и солдаты отдохнули малость… Сегодня, началось опять старое: утром была гимнастика. Опять посыпалась ругань, площадная брань фельдфебеля, опять начались зуботычины и т.д., и т.д.! Тяжело как-то переходить из мира добрых отношений, сердечности к тому безобразию, какое существует у нас… Господи, как же это можно всю жизнь только бить, ругаться, как делает наш фельдфебель? Ни одного слова участия, ни одной ласки, ничего вообще более или менее симпатичного всю жизнь… Начал он жизнь солдатом. На своей спине перенес все те мерзости, какие он теперь сам творит по отношению к своим подчиненным солдатам… Видеть всю отраду в самодурстве, тратить лучшие силы на обман, ложь, насилие!.. Ах, как сильно еще у нас развито самодурство! Возьму, хоть, опять-таки того же фельдфебеля. Как он злится на меня за то, что я ни зачем не обращаюсь к нему… Он всячески старается высказать это мне, а где можно и отплатить за мое презрение к нему… Но я нарочно буду противиться ему, показывая, таким образом, ему его бессилие… Кто-то из нас победит? Интересно бы знать, что станется с этим человеком, когда обстоятельства столкнут его с того пьедестала, на котором он теперь стоит… Он, грубый, лживый, без малейшей доли мягкосердечия в груди, привыкший только повелевать, вдруг будет выброшен на улицу без куска хлеба…
Среди наших солдат сильно развито воровство. У меня, например, украли пояс, а на днях сапоги. У Фед. – часы, у другого солдата тоже часы, у Успенского – щетку. Вот уже где строго применяется вся заповедь: «Не зевай»… Чуть, где кто забыл какую-либо вещь, ее уж ни за что не отыщешь потом. Люди эти не брезгают ни чем: попадется дорогая вещь, они ее стащат, попадется дешевая – они и ее стащат. Главных воров, конечно, немного (и в каждой роте они на примете), но печально то, что солдатское сообщество их вполне терпит, не смотря на все их безобразные поступки (так, они не разбирают, у кого воруют: берут последний рубль у какого-либо солдатика, если он под руку подвернулся, берут и богача)… Кажется, средств избавиться от такой язвы, существует очень, очень мало.
08.07. (20.07.) 1889 г.
Вчера держал экзамен на унтера. Итак, теперь одною ступенью ближе к освобождению… Фельдфебелю почему-то не нравиться получение мною права на чин унтера. Впрочем, ему, ведь, все то не нравиться, что нравиться мне… Итак я унтер. Еще одним шагом дальше стал я от солдат… Уж, теперь в силу самой дисциплины я должен держать себя несколько холодно по отношению к солдатам, чем это было ранее… Так-таки и не пришлось мне, как надо сблизиться с этим народом!... Хотелось хорошенько узнать мне его душу, его миросозерцание, но вполне мне не удалось этого сделать… Правда, я приобрел среди своих солдат любовь, даже уважение за свою «голову», но ко всему этому очень часто примешивалось подобострастие, желание подольститься. Эти насмешливые отзывы «Ах, барин!» Успенским, эта похвала моим способностям, моей доброте и т.д., все это вместе, не говорит ли о подобострастии?... Впрочем, я еще и теперь не теряю надежды хоть немного еще узнать людей… Я открыл еще нового любителя чтения – Голомерова. Он читает запоем. Гуан с Тургеньевым, Еруслан Лазаревич с Толстым – все укладывается в его голову… Он любит читать «книжечки» «про всякую штуку»… Сам по себе, Голомеров очень добродушнейшее существо. Несмотря на его ефрейторское звание, он относится к своим подчиненным очень дружелюбно, по товарищески (не то, что с другими дядьками), да и солдаты держат себя по отношении к нему очень хорошо. Зато уж достается же ему от высшего начальства (как, например, от фельдфебеля). Есть у нас и еще «книжник» - это Толкачев (преуморительнейшее существо в мире). Он довольно-таки сильно глух на одно ухо (оглох он как раз после того как фельдфебель его сильно побил), постоянно старается быть серьезным и строгим, хотя его глуповатому, добродушному лицу редко это удается… Он любит книги, хотя скорее не за содержание, а просто-таки за книгу, как предмет. Он скорее не любитель чтения, а библиоман. Помню раз, с каким восторгом он мне рассказывал, сколько есть у него дома книг (у него более 200 экземпляров). Его не так сильно интересовало качество книг, как их количество… Впрочем, все-таки и у него качество книги играет немалую роль. Сам он большой любитель книг духовно-нравственного содержания, хотя эта любовь совершенно не гармонирует с его собственным настроением: он любит очень рассказывать рассказы довольно-таки сального характера (и надо видеть эту глуповатую физиономию, всю эту уродливую фигуру, упивающуюся этим рассказом!)… О других дядьках не стоит, и говорить, так как в них ничего нет оригинального: хвастуны, «форсуны», страстные охотники до женского пола и только. Впрочем, разве вот только то, что один из них состоит шпионом у фельдфебеля (за это все, как начальники, так и рядовые, страстно его ненавидели. Ефрейтора – начальство, а потому довольно-таки сильно прижимают солдат. Форма прижимки бывает различная: они бьют молодых солдат, обирают их, заставляют их на себя работать, заставляют их угощать себя и т.д…. Эта черта, свойственная всем начальникам, конечно, не преминула коснуться и самых симпатичных элементов…
Когда я пишу эти строки, в соседней комнатке на столе, под образами лежит маленькое мертвое тельце сына наших хозяев. Наконец кончились все его страдания! У его изголовья нет ни отца, ни матери, а стоит только одна старушка соседка… Отец богатырским сном спит в сарае, чересчур упитанный водкой (наконец он совершенно спился с круга)… А мать пошла за гробиком и застряла в кабаке… Знаю, когда она явится пьяная домой, начнутся попреки, ругань, а потом дело, пожалуй, дойдет между супругами и до драки. И вся эта безобразнейшая жизненная сутолока совершается на глазах маленькой девочки (их дочери), еще не испорченного, но уже начинающего портиться, ребенка… Жить так всю жизнь, без всякого просвета в настоящем и без надежды в будущее!... Его жизнь началась под ударами шпицрутенов и плетей. Ему пришлось перенести суровую школу солдата Николаевской эпохи. Совесть усыпляется, нервы притупляются… Начинаются сделки с совестью, в силу житейских обстоятельств… Он начинает обманывать железную дорогу, сначала осторожно, понемножку, а потом с возрастанием волчьей алчности и «хапанья» все увеличиваются. Он делается богачом… Но «счастье недолго на свете сияет», и он … попадается. Его прогоняют со службы, мучение совести, все это перепутывается в его голове, начинает мучить его и вот он, чтобы хоть на время утешить свою муку, бросается в крайность – начинает пить… Привычка вольготно жить начинает сказываться, так как нет уже средств удовлетворять все свои прихоти (все на хапанное постепенно начинает ускользать из рук). Появляется раздражение… А тут на грех жена начинает тоже сильно пить (она раньше пила, но это тогда как-то не было заметно)… Вот и завязывается та страшная драма, которой очевидцем приходится мне быть… И таких драм, у нас в Троицком очень, очень много… Болтливая старуха (которая осталась за домоседку) объясняет это появлением «чугунки» и это объяснение верно. С «чугункой» (в обширном смысле слова) явилась возможность добывать сравнительно легким трудом кусок хлеба, появился досуг, появились новые требования, а так как новых нравственных устоев, кроме целой системы хапанья (во всех видах), дано не было, то эти требования и удовлетворение их, вылились в ненормальную форму… Соблазн вольготной жизни вместе с убаюкиванием совести все шире и шире расчищал себе дорогу… Что же будет с новыми поколениями, воспитанными в такой среде?...
18.07. (30.07.) 1889 г.
Безбрежное, широкое поле… Нигде нет ни деревца, ни кустика… С середины неба льет свои огненные лучи горячее солнце… Воздух душен, очень сильно наполнен пылью… Изредка, впрочем, пролетит ветерок и освежит окружающую душную атмосферу… Но вот полоса вспаханной и унавоженной земли. К прежней духоте и пыли еще прибавляется смрад разлагающегося навоза, которым поле это унавожено. По пыльной дороге, изрытой сохой, медленно двигается батальон солдат. Впереди всех едет на маленькой черной лошадке командир этого батальона. Его грузное тело мерно колышется от мерных шагов лошади… Шагах в 60-70 от него идут солдаты. На них, бедных, лица совсем не видно: до того оно покрыто пылью и загаром!... Их белые рубахи превратились в какие-то серые хламиды. Начиная с головы и кончая сапогами, все они покрыты густым слоем пыли. Изнемогая под тяжестью винтовки, ранца (с «выкладкой»), шинели, изнемогая от жары и пыли, они идут тихо. Впереди идут песенники и «одергивают» залихватскую песню. Поют они и про «Машу, которую лечил молодой лекарь», поют про «Земляничку-ягодку» и многое другое… Только одно и можно сказать про все эти песни, что они очень глупы и пошлы по содержанию, но мотивы, которыми они поются, указывают на удаль, силу, вечное «неунывание» солдата… Под песни и барабан идти легче, чем так в «сухомятку»… Под звуки веселой песни, как-то сами ноги- то и подымаются. А еще лучше идти под музыку… Только теперь и можно понять все великое значение музыки… Понятно теперь становится, что можно даже без страха и умирать идти на какие угодно страшные препятствия, когда на это воодушевляет чудные звуки чудной (дорогой твоему сердцу) песни… Во Франции и многих других странах люди геройски умирали на баррикадах под звуки «Марсельезы»… У нас нет своей «марсельезы», но мы способны умирать еще с большим геройством, чем все другие… Для нас еще, значит, песня не играет такой большой силы. В «сказке Таволгина» русский юноша поет чудную песню на родине только два раза: в кругу товарищей для своего собственного самоудовлетворения (он еще не знает, куда приложить свои силы) и для любимой девушки чудную песню любви, а песню борьбы против врагов Родины он поет в другой стране, так как его родина еще не доросла до своей «марсельезы», до баррикад…
Итак, возвращусь к старому… Батальон наш двигался, по измученным, усталым лицам солдат было видно, как тяжел был этот переход… Не было слышно веселых разговоров, шуток, только раздавался шум тысячи ног, да глубокие тяжелые вздохи измученных грудей, искавших чистого воздуха, постоянно наполняли окружающее пространство… Мне сейчас опять пришла в голову мысль – какой мы замечательный народ! Мы переносим страшные страдания, идем на смерть, геройски умираем и в тоже время хорошо не сознаем, зачем мы все это делаем, для кого все это делается… Мы знаем, что эти геройские подвиги нам лично не принесут никаких материальных выгод, а нравственные выгоды так еще плохо понимаем, а все-таки мы стремимся добиться выгоды… Мы с радостью остались бы дома, у своей семьи, с радостью стали бы продолжать свою трудовую жизнь, наполненную многими горькими днями, но перемежающуюся со светлыми, радостными минутами. Но, нет, нас кликнули на бой с «турками», с которыми ранее мы имели довольно смутное понятие, которые нам до сих пор ничем не мешали, и мы пошли, мы бросили друзей, товарищей, родину… Мне понятна война Франции с Пруссией, понятны войны Наполеона, понятна борьба на баррикадах. Там везде было вложено сознание: защита национальных интересов, защита классовых интересов, стремление привить всей Европе одни и те же порядки и нравы – все это носит или полное сознание, или долю сознания. Но то, что мы творим, совершенно лишено всякого сознания… Когда начинаешь ближе всматриваться в окружающую жизнь, ей богу, все больше и больше проникаешься мыслью, что мы потеряли «всякий смысл жизни!»…
Однако буду опять продолжать старое. Солнце по-прежнему палит, по-прежнему пыль стоит столбом… Батальон идет все дальше и дальше… Штыки винтовок блестят на солнце… Ноги уже как-то стали нечувствительными. Плечи перестало ломить… Но вот и маленькая передышка… Быстро бросаемся мы на мураву и расправляем свои онемевшие члены… Но отдых не долог, батальон опять идет… Ноги и плечи, немного было отошедшие, опять начинает ломить… И так далее, и так далее… Вечерело, цель похода уже близка… Вот и лесок. Здесь будет остановка до утра… Войско расположилось биваком… Вот и свежая холодная вода, а в непродолжительном будущем ожидается и чай… Но ничто так не приятно теперь, как отдых… Вот уже и благодатная ночь спустилась на землю. Мириады звезд смотрят на нас со своей громадной высоты… Бивак начинает понемногу затихать. Но говор, веселый смех, шум еще не замолк… Совсем стемнело. Только и виден ряд козел, в которые поставлены винтовки, да темные группы лежащих и сидящих людей… Но вот и последние голоса смолкли. Бивак погрузился в сон… Все тихо. Кругом бивака ходят только часовые, да изредка кто спросонья крикнет или заговорит громко…
Мне почему-то невольно на рисовалась сейчас другая картина… Тоже поле, но без засеянных хлебов или с измятыми, потоптанными нивами… Там и сям лежат обезображенные трупы людей и лошадей. Мириады птиц хищных носится над этим полем смерти. Шакалы бегают и своим отвратительным воем наводят еще больше грусти на душу, итак истерзанную всеми этими страшными зрелищами… В дали слышится канонада ружейных выстрелов, воздух еще напоен запахом пороха… Всюду разрушение, всюду погром. Вот эта самая дача, которая так манит теперь усталого путника под сень своих столетних дубов, в свои уютные комнатки, она уже теперь развалилась. Ею воспользовались, как хорошим укреплением. Из окон ее поделали амбразуры для ружей. В ее ограде сделали укрепление для артиллерии… Вот здесь валяется разломанный лафет, а вот и лошадь, убитая наповал в висок… Всюду смерть, разорение… Это – война… Мне рисуются дальше эти самые солдаты, с добродушных людей, они станут опять зверями… Со стороны противника слышится тоже ружейная трескотня… В воздухе слышится свист пуль… Шальные пули не раз уже задевали и нашу цепь… Вот и опять… Пуля вонзилась в бок бедному «Федору Платоновичу»… Раздался тихий стон… «Санитар!...» – слышится крик взводного командира. И почти умирающий Федор Платонович уносится на носилках в лазарет. Соседи убитого несколько смущены… Начинаются разговоры о несчастных случаях подобного рода… Вспоминаются факты, виденные самолично, а так же и рассказы, слышанные от других… Не будь здесь случайных смертей, положение в цепи не так уж удручающе действует на душу, ибо здесь нет еще «царства смертей», нет того «озверения», которое есть один из отличительных признаков войны… «Цепь вперед!» – слышится команда. Все встают и идут вперед, идут на верную смерть… Выстрелы слышатся все громче и громче… Жертв становится все больше и больше…. «Цепь стой!»… «Цепь ложись!»… Опять стрельба, но уже более учащенная с большими жертвами… Но вот начались перебежки. Тут уже людей бьют, как скотов… Часто из всего полка цели достигает пуль ¼ часть… Все поле усеивается телами раненых и убитых…
24.07. (05.08.) 1889 г.
Тоска, тоска и тоска!... Я на минуту было отделался от этой гнетущей меня силы. Широкие поля, деревеньки с их трудящимся людом, лес, чистый воздух, наконец, сами те люди, к кому я ехал – все это оживило меня… Но все это скоро прошло и … я опять погружаюсь в стоячее болото… А, как, правда, было, приятно, хоть на миг оторваться от этой серенькой, будничной жизни!... Приятно было потолковать на тему, не касающуюся вопросов купли-продажи, вопросов нашей злобы дня… Как приятно, радостно бывает отлететь хоть на миг от этой скучной земли, где вся жизнь исчерпывается только вопросом, как бы побольше взвалить тяжестей на плечи своего ближнего, а самому наслаждаться приобретенными благами!... А как далеко эти мечты о «нескучной земле, от жизни!»… Я уже не говорю об этой отдаленности в нашем родимом болоте. Нет, я беру уже людей, которые осознали необходимость существования «нескучной земли»… Ведь и им еще очень далеко до воплощения этого идеала в жизнь… Ну, не курьезно ли – эти самые люди всегда так хорошо говорят о «добре»… Они – сторонники теории «самоудовлетворения» и в тоже время, сами они все-таки ничего не делают, а все их потребности удовлетворяются, благодаря другим людям… А все-таки они славные люди! У них, как-то душа отдыхает от того торгашеского мира, в котором приходилось вращаться ранее… Ну, не тяжело ли вечно созерцать довольство, не довольное однако своим положением и стремящиеся достигнуть еще большей сытости, игнорируя, однако, окружающую нищету!... Ужасно бывает тяжело видеть постоянный разлад слова с делами, который так сильно врос в эту жизнь… Но еще тяжелее сознавать, что ты, презирающий эту болотную жизнь, ты, все-таки, благодаря ей и живешь. Не будь ее, ты, быть может, уже погиб бы, или сознательно (что, конечно, еще гнуснее) втянул бы себя в эту жизнь… А такой разлад у нас, интеллигентов, существует в громадных размерах. И нас, интеллигентов, нельзя винить за нашу ненависть к болотной жизни… Наша душа, воспитанная в другой обстановке, не может не относиться гадливо к этому болоту… Пользование же «болотом» можно только объяснить нашим шатким, беспочвенным положением… Впрочем, на это много причин существует. У многих людей на счет этого даже целые теории существуют…
Мое тяжелое состояние еще более осложняется тем, что у меня сильно больна сестра… Мне часто в голове приходят мрачные мысли: какой-то тайный голос шепчет мне, что она не вынесет болезни… А вдруг, да и правда она умрет!... Ну, как тут не прийти к мысли о бессмысленности того существа, которое управляет всем миром!... Зачем-то родился человек, трудился, учился и вдруг… В расцвете своей жизни эта нить натянулась и порвалась… Появилась какая-то маленькая тифозная бацилла и вопрос «о смысле жизни», да и вообще все вопросы, так смущавшие молодой ум и сердце, все это сразу покончено… Впрочем, не все ли равно, 18-летним, 60 или 100-летним умрет человек!... Все это капля в безбрежном океане!... Мне сейчас вспомнилось! Стихотворение в прозе «Тургенев», где говорится о том равнодушии природы, какое она оказывает человеку. Вспоминая все это, я опять-таки ставлю вопрос о «бессознательности» мироздания… Я до сих пор еще ни в чем не могу найти этой самой разумности. Уж не буду говорить о жизни человека, животных, а возьму лучше мир неорганический. Но и там, ни о какой разумности не может быть и речи
31.07. (12.08.) 1889 г.
Вечер. Падает мелкий осенний дождик. Маленькие, грязноватые от природы улицы городка еще более загрязнились. Нигде не видно пешеходов. В клубе танцевальный вечер. Музыка вяло как-то играет. В зале ни души. Бродят как сонные только всегдашние посетители клуба. Вяло как-то идет игра в винт, вяло играют на бильярде… Одно слово – скучно! Также вяло, апатично и скучно тянется всегдашняя жизнь и в нашем городке. Даже как-то удовольствия-то скучны!... Нет живого дела, нет людей, толкнувших это стоящее болото на что-либо более сознательное, серьезное… Общественные вопросы здесь мало кого интересуют. На земство, думу здесь смотрят с точки зрения «лишней обузы», мешающей только спокойно спать. Конечно, и здесь есть «деловые» люди, которые умеют ловить рыбку в мутной воде… Тоже и с судом присяжных… Нет, что ни говори, а до конституции нам далеко!... В чем выразилась наша самодеятельность? В устройстве «Комитета о бедных», который ограничивает свою деятельность пока только выдачей рублевых пособий нескольким десяткам старух, хотя в его программу входит устройство школ, приютов… Но я уверен, что это так и останется на бумаге. Уж можно судить по самим «комитетчикам»… Мне сейчас припомнился такой случай. «Комитетчики» должны были объехать всех бедных, чтобы собрать сведения для общего собрания всех членов. Вместо же этого все они съехались у одного из «комитетчиков» и, выпив изрядно и закусив, решили обойтись без объезда!... И это, ведь, главные деятели!...
Недавно открыли у нас «Общество страхования против пожара». При самом энергичном старании небольшой кучки искренно желающих этому делу процветания, дело это все-таки прививается очень туго…
Курьезнее всего с библиотекой. С. пожертвовала городу библиотеку. Вот уже 4-й год пошел с тех пор, как послан министру устав библиотеки, но он (министр) не отвечает на запрос, ни одним словом. А наши обыватели молчат (да большинство из них уже и позабыло, дай бог, про существование ее) и наверно никогда и не заявят со своей стороны требование, хотя нужда в библиотеке есть большая!... Ну не курьезно - ли? Четыре года уже в громадных шкафах лежат прекрасные книги и лежат без всякого дела… А тут же рядом страшная нужда в книгах!... Вот и все то, в чем выразилась наша общественная самодеятельность!... Господи, а если бы посмотреть, что делается на думских собраниях!... Нет, что не говорите, а «скучно жить на свете», господа!... Наша жизнь, так мало богата общественным элементом, сильно богата личным, эгоистическим… Я не знаю, где еще так сильно могут люди уйти в свою скорлупу, обрасти мхом и шерстью, забыв, или скорее не зная «о праве, о боге», как здесь… И, ведь, что курьезно-то! Люди сами по себе добрые, честные. Но понятия у них до того гадкие, что больно как-то становится! Строится дом в несколько тысяч рублей. Зачем? А затем, что «в том доме (старый дом, в котором может жить 10 человек) тесно жить, да и неловко будет в него ввести молодую хозяйку!»… Как тесно! Да, ведь, всего трое! Старики не нуждаются в новом помещении, а для двух (сестры и брата) хватило бы и старого дома!
– «Нет, как же бы это хватило! Ведь сестра – невеста, брат – жених. Им мало, да и неудобно»… В это время кто-нибудь заговорит о нищете, о предстоящем голоде, о каторжном труде работников, и на глазах хозяйки, строящегося дома появляются слезы (и, ведь, искренние), подымаются тяжелые вздохи… – «Вот видите – говоришь: тут люди страдают, а вы удовлетворяете свои прихоти!»…
– «Какие прихоти? Это необходимо!... Да не мы, ведь, первые… Все, ведь, так живут!»…
«Не мы первые!», «Все так живут!»… Эх! Приходит бедная старуха, ослепшая уже от древности, перенесшая в своей трудовой жизни немало горя и несчастья… У ней развалилась печь, а средств поправить ее – нет. Стоит все это всего 6 рублей. Оказывается, хозяйка дома хочет помочь ей, но дать 6 рублей это оказывается тяжело одному, надо будет пособирать у знакомых (6 рублей – и 6000 рублей, затрачиваемых на постройку!). Господи, этот проклятый меркантилизм, это отвратительное торгашество внедрилось всюду! Оно губит людей даже в самые прекрасные минуты жизни (когда душа сознает свою общность со всем человечеством)…
Или еще. Мне так часто приходилось слышать здесь упреки беднякам за их дешевенькую роскошь или за их не особенно энергичный труд. И от кого же? От людей, которые ни одним пальцем не ударили в своей жизни… Но довольно. Я, ведь, и сам в отношении эксплуатации своего ближнего ушел не далеко от своих… (текст отсутствует).
…его блестящая натура. Начал он свою карьеру тем, что в трактире с глазу на глаз со своими кредиторами проглотил свои векселя, по которым он был должен рублей 1500… Потом пошли крупные и мелкие обманы. Чаще всего попадались мужики. Я уж не говорю об обвешивании и обмеривании, нет, это, ведь, самая обыкновенная в коммерческом мире вещь. Мне помнится, например, такой случай. Он предложил мужикам купить у какого-то прогоревшего барина землю. Те согласились: земля продавалась дешево. Ильюха (так зовут героя) предлагает мужикам самим обделать это дело (тут же вынул бумажник и стал предлагать следуемую часть денег). Он заранее был уверен, что мужики возложат эту миссию на него. Его нахальство еще больше расположило на его сторону. Крестьянские деньги в его руках, в его руках же доверенности на покупку всей земли. Земля куплена. Настала весна. Наступило время пахоты. Мужики выехали на свои участки, но к их удивлению, их стали гнать приказчики Ильюхи, заявляя, что земля вся его. Затянулось дело. На суде, оказалось, по бумагам все за Ильюху. Свидетелей при отдаче денег небыло (были только сами потерпевшие). Так и оттяпал, ведь, землю. Жадность его дошла до того, что он и родственника своего не пожалел. Но… тут-то и прорвался. Его мошенничество было обнаружено, и суд приговорил его к тюремному заключению на 14 месяцев, но так как за него стал хлопотать Волконский (товарищ министра Н.Пр.), у которого он снимает в аренду громадную массу земель. И так как он пожертвовал на учреждение императрицы Марии несколько тысяч, то Государь сократил ему срок на 6 месяцев. Видно, и у этого субъекта еще осталась частичка совести: он не жалел денег, чтобы хоть как-нибудь отбояриться от позорного сиденья на скамье подсудимых, от тюрьмы. Но это ему не удалось (мне сейчас вспомнилось все мошеннические фокусы, которые он проделывал на следствии в суде). «Отлились-таки волку овечьи слезки»… Дорого пришлось поплатиться ему за прошлую жизнь!... После отбытия срока сиденья, его отдали под надзор мещанского общества. Оно хотело отказаться от него и, таким образом, ему грозила ссылка в Сибирь, но он за свою свободу дал выкуп. Тогда и общество стало мучить его задержкою в городе, вдали от его поместий… Ему опять пришлось откупиться. Кончился срок его заточения, но не кончились его страдания. Губернское присутствие не утвердили приговора того крестьянского общества, которое приняло было его в свои сочлены, так что теперь он опять находится под опекою мещанского общества.
Мне припомнился сейчас еще один факт из его жизни… Он как-то раз поймал свою жену с одним купчиком, за что купчик поплатился некоторой суммой денег… А сколько народу «о нем соблазнилось»! Для своего обеления он не жалел средств, а потому находил и лжесвидетелей, и защитников. Он подкупил даже мещанского старосту, которому теперь, кажется, тоже грозит плохая участь… Да, вот уж человечина, так человечина! Вся его жизнь сосредоточивается, кажется, только на деньгах, да на тщеславии. Он любит хвастаться своим богатством (рассказ домашней учительницы), своим знакомством с важными персонами… Сознание собственного достоинства у сего субъекта очень слабо развито. Вообще, это скорее какое-то животное, чем человек… Хотел я еще поговорить кой о каких субъектах, да верно отложу уж до другого раза.
11.08. (23.08) 1889 г.
Опять тюрьма… Третьеводни мне пришлось быть опять в дисциплинарном батальоне на карауле… Была тихая, теплая ночь, только не такая светлая, как тогда… Ни звука в воздухе. Только собака изредка залает, да запоздалый пьяный прошумит. В тюрьме тихо… Свет лампы пробивается сквозь решетчатые окна тюрьмы и отражается на валу… Почти все заключенные спят. Разметались, раскидались они по своим койкам, духота их мучает… Изредка слышится бред или удушливый кашель некоторых из заключенных… Заснули и в лазарете все… Только не спится одному: боль всего тела от вынесенной недавно порки не дает ему покоя… Не спится еще одному: он все придумывает, как бы ему ухитриться устроить побег… Он всю ночь продумает над эти вопросом... Спит и караульный дом. Только два или три солдата не спят и ведут тихую беседу. Один другому рассказывает сказки… По выражению их наивных лиц видно, что эти обязанности их ужасно тяготят. С радостью бы они ушли в свои избы и занялись своим любимым делом, вместо того, чтобы подвергать себя ответственности и неприятностям. Не долг чести и не нравственная тягость их смущает («Коли эти заключенные заключены, значит, их надо охранять» – говорят они), нет, им страшна кара, которая воспоследует за их проступки…
Я сел у крыльца караульного помещения и задумался… Моим глазам представился ряд людей с иссеченным телом за самые пустяковые проступки («на страх врагам?»)… Вспомнились мне те самые люди, которые ради того только, чтобы уйти из этой тюрьмы решаются подвергнуть себя ссылки в Сибирь. «Стоит только 3 раза покуситься на побег – вот тебе и Сибирь, а там свобода!» – думают, они и делают это… Часто, впрочем, это им не удается. Батальонный приказывает их выдрать, и они опять в тюрьме… Что бы как-нибудь попасть под следствие, они делают большие преступления и часто попадают впросак. Так, в то самое время, когда мы были в карауле, там в подследственном отделении сидело несколько таких человек. Что бы попасть «под следствие», они совершили святотатство. В польском храме разбросали священные вещи: чаши, образа и т.п. они думали, что благодаря этому они попадут только в Сибирь. Но ошиблись, за это им грозит каторга!... Оказывается таких людей «со свободолюбивыми мечтами» здесь очень много… Часто эти люди не убегают, а только показывают вид, что совершают побег. В данное время, например, в подследственном отделении находится таких людей человек пять. Большая часть из них именно только показывало вид, что бежит…
Мне вспомнились потом люди «другой категории» тут, например, есть несколько человек, посаженных за «членовредительство». Побуждающей причиной к такого рода «преступлениям» являлось невыносимое положение на действительной службе (побои, притеснения унтер-офицеров и других начальников). Есть здесь и еще особый класс «преступников» – это люди совершенно больные. Мне сейчас вспомнился один такой человек. Он мирно прослужил год в солдатах (надо сказать, что он страдает запоем), но потом вдруг прорвался, затем, пропадал долгое время вне казармы, пропил с себя все, даже и казенные вещи. Когда протрезвился, то его до того напугало его теперешнее положение, что он сбежал. За первый побег полагается арест на гауптвахте. Он отбыл это наказание (он сам явился в часть из побега) и стал опять мирно служить, но … тут опять несчастье – он снова запивает и во второй раз бежит, а за это уже полагается дисциплинарный батальон… Таких «несчастненьких» у нас много. Есть много и таких, которые невинны, как голуби. Так есть, например, один такой, который заснул на посту (он объяснил это так – разводящий держал его 4 часа на посту. Он устал, измучился, взял да и присел, а присев, и заснул)… Но много есть тут и отчаянного народа, такого, который ни перед чем не остановится для достижения задуманной цели. Так, тут недавно один арестант бросил камень в ротного, за что поплатился вечной каторгой, другой убил несимпатичного унтер-офицера, но и сам поплатился за это жизнью. Потом был еще такой случай – убили своего товарища за шпионство… Теперь, например, существует такой факт – из кухни пропал большой нож. Где он? Неизвестно. Всех арестантов обыскивали, но ни у кого не нашли, хотя начальство убеждено, что нож этот у них, да арестанты и сами не отрицают этого… Для кого-то они готовят его?...
Вот эти образы и мысли носились в моей голове… А на улице была такая же тьма. Так же тускло горели фонари, так же тихо и мирно прохаживались часовые… А в караулке по-прежнему два солдата рассказывали друг другу сказки… «Почему это жизнь» – думалось мне – «создает все новые и новые страдания?». Мало ей было создать войну – это страшное зло… Создавая новую касту людей, бессознательно приносящую такую громадную массу зла и горя всему общества, а еще большую самим себе, она создала целый ряд преступлений свойственных специально только этим людям и влекущих за собой еще большие личные страдания. Что, кажется, преступного в том, что человек, измученный усталостью, благодаря злоупотреблениям начальника заснул на посту? А, нет, это страшное преступление! Или хоть – временная отлучка их казармы (так называемый побег)?! Подумаешь, сколько сил (да каких еще сил!) растрачивается в бесполезной жизненной сутолоке, не принося никому, кроме горя и страданий, ничего! Сколько душ, быть может, чутких к правде и истине, глохнет в этой смрадной, отвратительной атмосфере, глохнет совсем без следа. Жить для того, чтобы служить «пушечным мясом» для неприятеля! Жить для того, что бы вечно быть каким-то манекеном без всякого сознания, без своей воли. Вечно сознавать, что ты не должен ни думать, ни чувствовать, а только исполнять то, что за тебя думают и чувствуют другие!...
21.08. (02.09) 1889 г.
Хочется подвести некоторые итоги… За последнее время мне-таки пришлось немного помучится… Меня стал тревожить вопрос: «что приобрел я основательного, существенного за свою уже не маленькую жизнь?»… Прежде всего, насчет жизненного опыта. Кажется, в 24 года жизни можно бы было познакомиться с жизнью, стать практиком, узнать это «древо познания добра и зла»… (текст отсутствует).
...ротой не отдал ни одного солдатика под суд. Что касается лично меня, так его отношения были самые прекрасные. Благодаря чему, я уже не погружался так глубоко в тину окружавшего болота. Я чувствовал себя почти, что совершенно хорошо. А страшно бы было погрузиться в такое болото... Вряд ли бы возможно было оттуда возвратиться. Мне особенно припоминаются рассказы моих товарищей по оружию (ездивших держать экзамен вместе со мною)... Сколько печального наговорили они мне о своем житье-бытье! Отношение, например, командира полка к привилегированной одной части ротных! Отношение самих ротных. И, наконец, жизнь в казармах, отсутствие людей, разделяющих одинаковые взгляды на все эти ужасы. Тяжко отзывается на нравственной стороне характера. Я был в этом отношении счастлив, в казарме жить не пришлось, отношение
всех начальников было хорошее, солдаты меня так же любили. Часто, конечно, смущала мысль о бесцельности такой деятельности, наконец, частые столкновения из-за несправедливых отношений над солдатами. Все это сильно влияло на нравственную сторону. Вообще надо сказать, что солдатчина отозвалась-таки и на мне, не смотря на все прекрасные условия, в которых я находился, нервы мои как-то стали тупее, умственный горизонт как-то малость подсузился... Конечно, все это – вещь скоро проходящая, но все-таки тяжело и жаль...
«Воротится весна назад, все цветы зацветут»... Я верю, в эту весну и в себя верю... Сейчас, просматривая свои тетрадки, я увидел, что давно, очень давно не писал (не писалось как-то!). А ведь за это время много «утекло»!...
Прежде всего, надо сказать, что я лишился человека, который для меня был очень, очень дорог (Анатолий Перфильев)... Мне как-то и до сих пор не верится в его смерть... Да, можно ли было ожидать, что бы человек с таким сильным, могучим характером, таким громадным умом, снабженный огромным знанием, чтобы он так быстро, неожиданно погиб, так, не принеся даже одной сотой доли той пользы, которую он мог принести... Сколько благих пожеланий и надежд возлагалось на этого человека! Да и было на что возлагать... В этом человеке, «сокровище душевной красоты», «совмещены были благодеяния!»... Какой возвышенный ум, какое чистое сердце! Что его заставило покончить жизнь, я еще не знаю... Надо сказать, что в нем было много странностей. Так, он очень часто задумывался, часто тяжко вздыхал. Помню его одну фразу: «Одного боюсь я» – говорил он часто – «Это малодушия!»... Он боялся разувериться или в идеалах, или в своих силах... Смерти он никогда не боялся... Помню, как-то мы заговорили о будущем общественном строе, и я заметил, что, не есть ли все эти толки наши о будущем – «фразы» (быть может, мы только потому и говорим так, что уверены в не скорое исполнение). Ведь мы не будем в силах зарабатывать честно куски хлеба, мы будем в тягость членам того общества, во имя которого, теперь мы готовы душу положить свою. «Так, что же» – говорит Анатолий – «Мы покончим жизнь самоубийством, что бы даром не коптить небо!». Я не верю в фатализм, но по отношению к Анатолию можно было применить эту теорию... В его лице, в выражениях проглядывала всегда эта незаметная черточка, говорившая больше чувству, чем уму о необыкновенном конце его жизни... Наконец, его близкие товарищи, друзья тоже покончили жизнь самоубийством. А все-таки очень, очень тяжко!... Ведь такой человек мог бы принести для России громадную пользу... У меня нет сил, выразить той грусти, которую я испытываю в силу его смерти. Нет у меня, так же сил, выразить того уважения и любви, которые я питал к нему... Если бы я обладал кистью художника, я бы нарисовал эту прекрасную, благородную личность, но у меня к несчастью нет таланта, не только художника, но даже и посредственного писателя... А как бы мне хотелось показать всему крещеному люду эту чистую, прекрасную натуру... Мир твоему праху, честный человек!
Не могу умолчать еще об одной печальной истории, о суде над якутцами. Четырех приговорили к смертной казни, а остальных на каторгу. И за что? Так, почти что ни за что. Создать самим «бунт», усмирить, а потом осудить оставшихся в живых от «усмирения». Печально, очень печально!... Вот, в это-то время, когда моя душа страдала так сильно, мне приходилось «заставлять» себя забыть «все это», так как внешние обстоятельства ставили для разрешения другие вопросы службы: экзамен на чин прапорщика и т.п. Приходилось целые дни тратить на изучение самых отвратительных, самых безобразнейших вещей, иссушающих мозг и сердце! Приходилось, например, запоминать, за что необходимо вешать людей, а за что «только» расстреливать (хорошо – это только!). Приходилось изощрять свой ум над тем, чтобы иметь возможность побить побольше врагов, наконец, приходилось иссушать мозг заучиванием этих глупейших команд!... Но все кончилось, теперь я прапорщик...
18.10. (30.10.) 1889 г.
Опять взялся за перо... В голове такая масса дум, что просто-таки не знаешь за какую вперед взяться! Я еще вчера хотел покончить с солдатчиной, но кажется, придется и сегодня оставить этот предмет до более удобного случая. Прежде всего, о «мелочах жизни». Дня четыре тому назад у нас в городе замерз Демьян – горбун... Странный вид представлял этот бедняк! Горбатый, худой, весь в лохмотьях, с замученным, забитым видом... Вся его недолгая жизнь прошла в нищете и каторжном труде... Родных у него здесь не было, так что ему негде было отдохнуть душой от всех житейских неудач, которыми была переполнена вся его жизнь... Бедный, забитый, он находил себе приют в кабаке. Все свое горе, все свои страдания он топил в зеленом вине... Да и что, правда, можно было найти ему другое в жизни? В детстве мало ласкала его рука матери. В юности мало приходилось ему видеть ласки от женщины: он был урод, а притом еще бедняк... Не мог искать он утешения и наслаждения в книжке, так как даже и грамоты не знал... Вот и проходили «лучшие» минуты жизни в грязном кабаке за стаканом водки, среди таких же несчастных, как он, людей... Была темная октябрьская ночь... Дул сильный, холодный ветер. С неба на скучную землю сыпалась гололед (в этом году октябрь был чересчур холоден)... Демьян весь растерзанный, босой, без шапки шел в такую погоду по Елецкой улице. Он сильно был пьян... Куда он шел, неизвестно (должно быть «так себе»)... Силы же ему изменили, или так, он споткнулся, но только он упал. Сколько он не карабкался, а сил на то, чтобы встать, у него не хватило... Гололед били его сверху, холодный ветер обдавал его с боков, а мороз, который сильно также крепчал, все больше и больше его замораживал... Должно быть, эта минута, была самая лучшая минута в его жизни, если только справедливо мнение, что сны при замерзании бывают, снятся чудные... Утром его подняли почти что мертвым, однако, он прожил в больнице полчаса и умер... Зачем, спрашивается, жил такой человек? Всю жизнь мучиться, страдать, даже и умереть-то не так, как «все люди»... Средств похоронить его не было, пришлось ходить «по миру»... «Кто виноват? У судьбы не допросишься»... Мы виноваты, мы сытые, довольные люди, заставляющие других тратить на нас все свои силы, и дающие им за это только крохи со своего стола. Мы, интеллигентные люди, развившиеся и продолжающие развиваться, опять-таки, благодаря трудам, страданиям и нищете этих несчастных, и не дающие им почти что никакой, или прямо-таки никакой нравственной пищи... А какая масса гибнет этих несчастных! Сколько сил физических и нравственных гибнет так напрасно, в угоду нам, достаточным людям...
Материал предоставлен -
Карчевским Д. А. 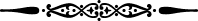 |
|
|

