|
|
 |
Узел III. Второе марта. Глава 323
Как пошёл Шингарёв 28-го февраля в Продовольственную комиссию, так и сидел там третьи сутки, мало отвлекшись на сон и на еду.
За всё это время он не участвовал в политических страстях, интригах, замыслах, надеждах, даже не следил за ними, как будто и не в Таврическом дворце находился (а одну ночь и ночевал тут).
В Продовольственной комиссии совсем не красно крыло ощущался полёт революции, но — перекидкой косточек счётов, накладными, нарядами, колонками цифр. Но и, пожалуй, единственное это было место, где не уверенный в себе думский Комитет и наглеющий Совет рабочих депутатов не соперничали, не подозревали друг друга, но сотрудничали.
Хотя Шингарёв никак там председателем не стал, но всё же Громан и какой-то Франкорусский не препятствовали ему работать. Да без Совета рабочих депутатов и трудно было сейчас продвигаться с каким-либо делом в петроградском хаосе. (Громан и свой хаос добавлял в качестве революционного эксперимента: на сливочное масло, которого было полно, объявил таксу — и оно исчезло из лавок).
Шингарёва всегда тянуло к живому делу. А живей и важней продовольствия вряд ли и было что сейчас в Петрограде. Есть хотелось всем по-прежнему и в революцию, и у хлебных лавок с утра собирались хвосты.
Да муки-то в Петрограде было совсем и не мало! — как теперь с удивлением обнаруживал Шингарёв по стекавшимся документам, — ещё же и военные запасы. Вся опасность оказалась сильно преувеличенной.
А поскольку мятели кончились — на Николаевский вокзал как ни в чём не бывало продолжали прибывать новые вагоны с мукой. Но именно благодаря революции они не разгружались. Новые многие тысячи пудов! — и надо было срочно разгружать их, перевозить, снова складывать, отпускать пекарям, выпекать — а ни у кого настроения не было. Надо было уговаривать грузчиков и пекарей, призвать к их сознанию как граждан.
Вначале Продовольственной комиссии казалось только-то и всего: возобновить продажу печёного хлеба, упразднить хвосты. Но поле деятельности разворачивалось само собою. А — охранять продовольственные склады, оставленные теперь безо всяких часовых? А — охранять развоз муки по хлебопекарням? (Нападений на муку и хлеб ещё не было, значит не голодны, но по общему беспорядку в любую минуту могли быть).
Перевозка по городу оживилась бы, если б можно было пустить грузовые трамваи, — но все трамваи были остановлены властью революции. А — кто-то же должен был теперь кормить и солдат, в защите дела свободы отбившихся от своих казарм? И целые лишние полки, нахлынувшие из окрестностей в Петроград? очевидно — надо было выделить подкомиссию по фуражу, и что-то решать с петроградскими извозчичьими лошадьми, которые лопали хлеб, из-за того что нет фуража.
Чего никогда не посмела бы отмершая старая власть — могла сделать нынешняя Продовольственная комиссия: обратиться к чести и достоинству каждого гражданина, получившего теперь свободу, — прося его ограничить себя в потреблении продуктов первой необходимости и делать закупки только по действительной потребности, а не в запас.
Но с другой стороны нельзя было и пренебрегать введением карточек на хлеб. Как ни обидно, но приходилось начать революционную эпоху с установления хлебных карточек. Обывателю установить норму полтора фунта в день, нет, даже фунт с четвертью, — а солдатам, считаясь с их буйным революционным духом, придётся два с половиной.
И ещё вся организация карточной системы в Петрограде требовала многочисленных собраний по районам, подрайонам, попечительствам, кому-то печатать карточки, кому-то составлять списки, кому-то приглашать владельцев булочных на заседания в городскую думу.
Но Шингарёв, со своим уже государственным опытом, видел, что дело никак не ограничится одними петроградскими хлебными заботами: перед глазами вставала вся страна. По своему положению кто ж, как не Петроград, обязан был продолжать бесперебойное снабжение Финляндии, Балтийского флота да и Северного фронта?
А по той революционной роли, в которой Петроград уже объявил себя России, — очевидно он, а не кто другой, должен был обеспечивать хлебом и всю Действующую армию и все города Империи. И все эти заботы, пока не существовало нового правительства, — кому ж было брать сейчас, как не Продовольственной комиссии?
И Шингарёв убеждал своих случайных революционных коллег: революционная власть должна жить и завтра, и послезавтра, — и поэтому забота быть должна не только о том хлебе, который уже в Петрограде, но о том, который всюду по России, и надо, чтоб захотели везти его в Петроград и другие места.
А надежда Шингарёва была — на добрую волю, на доброе сознание самого народа!
Наш народ веками был лишён драгоценного дара свободы. А теперь, когда революция предоставит ему свободу во всей широте, — он сам, наш Святой и Великий Страдалец, нащупает верные пути.
До сих пор потому недостаточно поступал хлеб, что крестьяне не доверяли старой власти. А если теперь открыто призвать крестьянство к бескорыстной сдаче хлеба, — то оно тотчас широко душным святым движением, вереницею подвод потянется навстречу новой революционной власти.
Итак, не обойтись без воззвания ко всей стране, первого воззвания революционной власти к России, и будет оно — о хлебе. Как-нибудь так: «Граждане! Совершилось великое дело: старая власть, губившая Россию, распалась!
Главная задача теперь — обеспечение продовольствием...
Запасов хлеба от старой власти осталось очень мало, и надо спешить заготовлять...»
Но кто такая анонимная Продовольственная петроградская комиссия, чтобы взывать к России?
А кто теперь вообще мог, имел право взывать к России? Одно такое несомненное имя было: Родзянко. Надо убедить Михаила Владимировича подписать. Да он несомненно подпишет.
Но прежде надо составить эти сильные слова, этот звучный призыв к русским сердцам.
И Шингарёв — искал их, мучась, что всё приходят не те, не самые лучшие, сидел за углом случайного стола и набрасывал это воззвание, сам до того волнуясь, что должен был скрывать от соседей наплытие слез:
«Граждане России! Земледельцы, землевладельцы, торговые служащие, железнодорожные рабочие! — помогите родине! Все как один человек — протяните руку помощи в эти грозные дни! — пусть ни одна рука не опустится!»
Когда Андрей Иванович думал о народе — о народе в целом и обо всех благородных сердцах, его составляющих, — он всегда был слаб на эту слёзную поволоку в глазах и в голосе, он всегда выражал лицом и голосом больше, чем неподатливой речью устной или письменной:
«Скорее продавайте хлеб уполномоченным!
Отдавайте всё, что можете! Скорее везите к железным дорогам и пристаням! Скорее грузите!..
Время не ждёт! Граждане! Придите на помощь родине хлебом и трудом!»
Удалось написать. И удалось переломить сопротивление сухих социалистов Громана и Франкорусского, не верящих в сердечные воззвания, а только в экономические законы. И без труда размахнулся широченной подписью Родзянко. И это попало в газетные листки, запорхало!
Но уже через несколько часов социалисты прижали Шингарёва в реванш: землевладельцы — разные, и у которых большие запашки — хлеб надо реквизировать, а не взывать к добровольной сдаче. Революционная власть — обязана так.
После душевной сласти воззвания Шингарёву это было как нож. Посопротивлялся он им, сколько мог, но сила и напор были за ними. И сегодня Продовольственная комиссия разослала во все концы России такую телеграмму (по телеграфной скорости она должна была воззвание где нагнать, где обогнать): у всех земельных собственников с запашкою больше 50 десятин (а это — совсем не большое владение!) реквизировать (без понижения цены, — только и добился Шингарёв) хлебные запасы. И — запасы торговых предприятий и банков. (Банки Шингарёв не только не защищал, он давно предлагал Думе надзор за банками, но его окорачивали).
Никакой Россией не выбранная, России не известная, петроградская анонимная комиссия телеграфировала такую команду.
И в этих волнениях и борениях, честное слово, забыл Шингарёв, что в какой-то другой комнате создаётся же правительство, и он вот-вот перейдёт туда министром финансов.
Вдруг пригласили его зайти к Милюкову.
Андрей Иванович пошёл. Уже ни в каком коридоре, и в думском крыле, не пройти без сутолоки совсем чужих людей.
И в той комнате, где Милюков сидел, тоже теснились лишние люди, и не только доверенные. Присел к нему поближе, разговаривали вполголоса.
Черты Павла Николаевича за эти сутки обострились: брови стали как будто ребёрчато-угловатые, а усы даже на вид пожестели до проволочных. Напряжён был — а вместе с тем как будто и рассеян; разговаривал с Андреем Ивановичем, а думал как будто и о другом.
Да разговор-то недлинный: лидер кадетской партии сообщал своему сочлену и заместителю по фракции, что в новом правительстве он получает портфель.
Ну да, кивал Шингарёв.
Однако — так и не так, выразил Павел Николаевич озабоченность, и с выражением неприятности, жёсткости. Тут — некоторая более сложная комбинация, выходящая за внутрипартийные расчёты. Андрею Ивановичу придётся стать министром — земледелия и землеустройства.
Что называется — глаза на лоб полезли у Шингарёва: как? что? с чего? почему? Да ведь...
да ведь не сам он, но вся кадетская фракция, но вся Дума привыкла и прочила его в министры финансов!
Не то чтоб он был финансист, или специалист по финансам, такого образования он не имел, но кадетская фракция была настолько иссушающе юридична и гуманитарна, настолько никто не владел никаким практическим делом и даже считать никто не умел; а кому-то надо было заняться финансами, — вот и взялся Шингарёв. И — годами сидел над сметами, и учился у финансовых чиновников, и изучал методы — и, кажется, довольно блистательно оппонировал Коковцову.
Столько труда, изучения, анализа — зачем же?..
Открытый лоб Шингарёва не умел скрыть чувства, Милюков бы не мог притвориться, что не замечает. Но Павел Николаевич ни с кем никогда за всю, наверно, жизнь не бывал ни открыт нараспашку, ни душевно мягок, — сентиментальности и участия не ждал от него и близкий товарищ по партии. Однако имел право Шингарёв на человеческое объяснение, что и Милюкову это больно, обидно, но так получилось?
Нет, слишком ли напряжённый событиями или по своей непереступаемой холодности, Милюков даже не захотел изобразить подходящего к делу сожаления. Хотя именно этим словом ответил, как диктуя:
— К сожалению, это совершенно неизбежно. Это не подлежит дискуссии. Этого нельзя было устроить никак иначе.
Очевидно, он многое знал такое, чего не мог сказать. Да Шингарёв привык видеть в Милюкове крупномасштабного политика, не сравнимого с собой. Он верил ему, он шёл за ним, он готов был и согласиться и дать себя уговорить, — но всё же хоть что-то объяснить? Уж как обидно! — труд, направление стольких лет работы вдруг вывалить из рук.
И тогда омрачённому Шингарёву Павел Николаевич тихим голосом объяснил:
— Да что, Андрей Иваныч. Мы-то с вами знаем, что вы никакой не финансист. Знания ваши по финансам — популярного лектора, из народного университета. Так можно вас посчитать и специалистом по военно-морскому делу, раз вы в комиссии председательствовали. В конце концов, разве вы углубились до производительных сил государства, как направить экономику?
Ваши заботы были — о справедливости прямых и косвенных налогов, они диктовались вашим прекрасным народолюбием. Так в этом смысле вам ещё больший простор будет на продовольствии.
Последние месяцы вы им и занимались, удачно оппонировали Риттиху, — вот и займите его место.
И во всём этом — да, была какая-то правда.
Павел Николаевич умел говорить убедительно. Однако, всё же, столько лет труда, усилий — и...?
Но положение было вообще — не возражательное. В такие дни на какой бы пост ни назначила партия, надо брать. Шингарёв и раньше всегда привык: брать всякое новое дело, тянуть, и на этом учиться. И на военно-морском деле он не такой уж был несведущий, да. И о продовольствии — тоже уже подумал немало, верно, да.
Почему это всё переместилось — Шингарёв не настаивал знать. Но настолько он был обескуражен и так обидно, что не догадался даже спросить: кто же будет министром финансов.
Уже уйдя, подумал: а почему же всё-таки не обсудили раньше, а так — за глаза, без спросу? Как странно и неколлегиально создавалось такое желанное министерство общественного доверия!..
А для Шингарёва это был выбор жизненного пути на всю теперь революцию.
А уж в земледелии — он был знаток совсем никакой, разве только от критики столыпинской реформы.
Но возвратясь в Продовольственную комиссию (и ничего не сказав социалистам), перечитал своё вчерашнее воззвание — и снова пронялся чистотой и трогательностью чувства. А вот рядились цифры, цифры, — не всё ли равно какого министерства, в рублях или пудах, — за ними стояли красавцы-колосья и колебалась сама народная жизнь, которую и надо поднять из разорения к расцвету.
Ощутил Андрей Иваныч за час, за два, что он уже простил обиду. И смирился.
И даже уже ему нравилось стать министром земледелия.
Это возрождающее, возобновляющее, восстающее чувство гнездилось в самой сути его души: из-под любого обвала, пожарища, пепла — сколько раз оно само, и быстро, вновь поднимало его к устойчивости и свету.
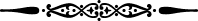 |
|
|

