|
|
 |
Милюков П.Н. Андрей Иванович Шингарев
А.И. Шингарёв оставил глубокий след в истории русской политической жизни, и его личность заслуживает большой и подробной биографии. Я не сомневаюсь, что такая биография и будет со временем написана. Но я, просидевши с Андреем Ивановичем десять лет на одной скамье Таврического дворца и в заседаниях бюджетной комиссии, слишком хорошо знаю, как много надо и можно собрать материалов для этой биографии - и как мало их у меня под рукой. Я могу дать здесь лишь беглую характеристику, основанную на личных долговременных наблюдениях и подкрепленную посмертным человеческим документом: тюремным дневником, который А.И. вел в течение десяти последних недель своей жизни.
Мы сходились с А.И. так долго и постепенно, что у меня в памяти не сохранилось воспоминаний о наших первых встречах. Это было, во всяком случае, еще до создания, в октябре 1905 года, партии, в которую мы оба вошли членами и в которой А.И. постепенно перешел со скромной роли провинциального деятеля на роль избранника столицы, популярного государственного деятеля и одного из самых влиятельных "лидеров" центрального комитета конституционных демократов. В Государственной Думе его роль была значительнее, чем в парии, и именно тут он, по заслугам, приобрел репутацию всероссийского печальника о нуждах миллионных масс русского народа. Эта репутация как нельзя больше шла к его личности, к его убеждениям старого народника; он, можно сказать, слился со своей общественной ролью. В общественном служении был весь Шингарев, и вся его жизнь стала общественным служением.
Началось оно в условиях, необыкновенно характерных для личности и убеждений Шингарева. Было общеизвестно, что А.И. был врачом в глухом провинциальном захолустьи, что он написал книгу о вырождении народа, в которой нарисовал ужасную картину условий быта в русской деревне, - быта, поистине, звериного, - "власти земли", как она изображалась нашими беллетристами, Глебом Успенским, потом Буниным, - и как мы, горожане, знали ее только по книгам. Мы знали, что, выйдя из этой гущи русской жизни, А.И. уже там, в провинции, пробился на видную роль в местном земстве, сперва уездном, потом и губернском. Эта первая арена деятельности оказалась прекрасной подготовкой к тому, что потом пришлось А.И. делать в Государственной Думе. Именно потому, что он пришел от земли - и пришел с теми убеждениями, которые дали ему твердую нить для понимания истинных народных интересов - именно он скоро сделался незаменимым не только в нашей партийной среде, но и среди разнообразного состава последних Государственных Дум.
Все это так. Но только читая "Дневник" А.И., я лично понял, что скрывалось за этими внешними фактами биографии А.И. Вот, что пишет он о своих взглядах и побуждениях, определивших в ту раннюю пору его жизни сознательный выбор карьеры. В этом признании мы узнаем народника, - но не народника семидесятых годов. А.И. не идеализирует обстановки, в которой ему придется действовать. Он уже "сын" младшего поколения, отказавшегося от иллюзий отцов. И тем более славы ему за избранное им - как увидим, совершенно сознательно - решение. Он пишет:
"В основе русской государственности, которую недаром мы называли колоссом на глиняных ногах, лежали темные народные массы, лишенные государственной жизни, понимания общественности и идеалов интеллигенции, лишенные часто даже простого патриотизма. Поразительное несоответствие между верхушкой общества и его основанием, между вождями государства в прежних его формах, а также вождями будущего, и массой населения - меня поразило еще с юности, с первых лет университетской жизни. Оно представляло собой не только опасность для существующего порядка. Это было бы не беда: оно представляло громадную опасность для государства. Тогда эти мысли привели меня к заключению о необходимости сближения верха с низом, установления связи прочной и реальной. Тогда мне казалось все бесполезным: наука, искусство, политика, если они не преследовали только эту цель. Вот почему тогда я бросил свои первоначальные планы отдаться науке, которая меня притягивала, и пережил свой первый кризис, бросив занятия ботаникой и поступив на медицинский факультет, чтобы уйти в народ врачом. Отвергнув второе искушение - остаться при клинике у Остроумова, я пошел даже не земским врачом: я думал, что это отдалит от народа по положению, а просто вольным врачом".
Цельность настроения, с которым приносится эта двойная жертва, напоминает идейные побуждения, заставлявшие идти "в народ" молодежь 1874 года. Но пребывание вольнопрактикующего врача в самой гуще народной жизни положило основу всей дальнейшей деятельности А.И. Именно оно толкнуло А.И. от медицинской практики среди народа в политику, преследовавшую благо этого самого народа.
"Долгие годы потом - дополняет А.И. прерванную фразу - показали мне, как трудно что-либо сделать на той дороге, на которую я пошел, и как старый режим заграждал тысячами препятствий эту дорогу, по которой и без его упрямого и безумного сопротивления можно было двигаться лишь очень медленно и с огромным трудом. Те же мысли, те же соображения всегда руководили мной и в политической работе. Вот почему я всегда стоял за эволюцию, хотя она идет такими тихими шагами, а не за революцию, которая может, хотя и быстро, но привести к неожиданной и невероятной катастрофе, ибо между ее интеллигентскими вожаками и массами - непроходимая пропасть".
Эти определенные заявления объясняют не только, почему А.И. погрузился в политику, сделавшуюся его настоящей стихией, но также и то, почему он выбрал именно тот вид политики, который наиболее отвечал полученному им житейскому опыту. Для русского интеллигента тех годов выбор политической партии, хотя и ставившей целью благо народа, но не называвшей себя социалистической, был нелегок. В момент создания такой партии многие отошли в сторону. А.И. пришел - и остался. Он сделался неумолимым противником "фантазий детей, желающих поймать звезды своими ручонками". Возражать таким образом приходилось тогда не только против одного большевизма.
На этой почве началась наша совместная работа с А.И., потом уже не прекращавшаяся до конца. Еще не выдвинувшись в первые ряды парламентских деятелей, А.И. сделался самым ценным участником политических митингов и предвыборных собраний. Много политических боев провели мы с ним вместе. Обстановка, в которой приходилось вести эту борьбу, не всегда была для нас благоприятна. Против нас боролись не идеи, а настроения. Нашими противниками редко оказывались серьезные политические деятели из левого лагеря. Большей частью это были натасканные митинговые "оратели", говорившие по "шпаргалке", или безусые юнцы, вроде знаменитого впоследствии "товарища Абрама" (Крыленки). Зажигало толпу не то, что они говорили. Возбуждала ее и передавалась ей страсть, с которой они нападали на "буржуев", беспардонная демагогия с самыми примитивными призывами к классовой борьбе против "капиталистов и помещиков". Нашим оппонентам ничего не стоило свести спор на личную почву, объявив меня самым крупным помещиком, а Шингарева самым крупным капиталистом в России. Вот в таких схватках, где может подействовать - если вообще может что-нибудь - такое же горячее слово и полная искренность, которую даже многолюдное собрате умеет, в конце концов, ощутить и оценить, - участие А.И. было незаменимым, а его манера спорить - неподражаемой. От серьезного спора он умел перейти к убийственной шутке и сарказму, столь знакомым впоследствии его думским противникам. Опровергнув теоретические доводы, он переходил к горячим призывам, не столько популярным по содержанию, сколько внутренне убедительным, заставлявшим смолкать даже самых ярых фанатиков. В результате мы иногда побеждали даже там, куда, казалось, и придти "кадету" было невозможно, например, на собраниях Выборгской стороны, среди чисто фабричного населения. С крестьянами А.И. был совсем в своей афере: он всегда умел затронуть их душевные струны.
А.И. попал от Воронежской губернии уже во Вторую Думу. Но там ему было негде развернуться. Он еще стушевывался перед столичными ораторами, старыми бойцами партии. Его истинно-замечательная и выдающаяся деятельность начинается в Третьей государственной Думе.
Положение партии в начале сессии этой Думы было нелегкое. Наши лучшие, испытанные и опытные силы были устранены Столыпиным с арены политической борьбы: они были лишены избирательных прав за подписание выборгского манифеста. Дорвавшиеся до положения большинства, правительственные партии пылали ненавистью к "революционерам", к которым, конечно, причисляли и партию к.-д. Бурными демонстрациями этой ненависти они спешили выслужиться у начальства. Искусственно подобранные демократические элементы, крестьянство и низшее духовенство правых партий, трусливо молчали и голосовали по приказу. Выступления членов партии к.-д. заглушались свистом и гамом, умышленно организованными под дирижерскую палочку Павла Крупенского. И по существу нелегко было заставить себя слушать в этой Думе, которая не терпела политических речей и подрядилась делать "дело", проводя правительственные законопроекты и голосуя "вермишель". Действительная серьезная работа передвинулась из общих заседаний в многочисленные комиссии. Чтобы что-нибудь значить в этой Думе, надо было стать на одну почву с ее большинством и показать свою силу в детальной, "деловой" работе.
Шингарев именно в этой обстановке снова оказался незаменимым. Земская работа приучила уже его и к подобной же среде и к соответствующей стороне общественной деятельности. Все мы соглашались с его любимой мыслью, что действительную силу народное представительство может получить именно путем участия в детальной работе по бюджету, пользуясь своим "правом кошелька" и проверяя правительство в каждой статье его расхода, как бы ничтожна она ни была. С этого, так сказать, заднего крыльца проходила перед нами вся государственная жизнь во всех своих подробностях. При желании, поводов к критике было сколько угодно. И, так как в бюджетной комиссии, а потом и в общих собраниях, при обсуждении бюджета проходили поочередно сметы всех ведомств, то, при всей "забронированности" бюджета от народных представителей, всегда сохранялась возможность поставить на обсуждение Думы, не в форме необязательных для правительства запросов и вопросов, а в форме, связанных с голосованием кредитов, - любую тему в области внутреннего управления и внешней политики. Но при этом нужно было соблюсти одно обязательное условие; нужно было знать вопрос и говорить дело. Оба эти качества заранее отрицались у оппозиции. Прежде всего, чтобы показать знание дела, нужно было еще заставить себя слушать. По необходимости, члены фракции, не очень многочисленной - всего до полусотни членов - должны были распределить между собою работу по специальностям. На самую ответственную из этих специальностей - по вопросам экономики и финансов - у нас не хватало людей. Я помню трудное положение фракции, когда ей пришлось выступать с первой бюджетной речью и когда наш единственный знаток - Н.Н. Кутлер - отказался от выступления по разным причинам. Пришлось сооружать эту речь общими силами, а говорить ее пришлось мне, как председателю фракции. Естественно, что все мы были очень рады, когда за следующий бюджет вплотную принялся А.И. Он развернул в этой работе огромную трудоспособность, дисциплину труда и какую-то особую въедливость, если можно так выразиться. Он принялся за изучение смет каждого отдельного ведомства, и перед каждым заседанием бюджетной комиссии выуживал те отдельные ассигновки, в которых не все было благополучно и можно было прижать ведомство. Перед заседаниями мы с ним отмечали эти пункты и распределяли выступления. Конечно, большинство этих выступлений приходилось на его долю. Надо сказать, что при всей своей неутомимости, и он не мог бы совладать с этим дедом, если бы не одно, особое, обстоятельство. Заметив неукротимость молодого депутата в доискивании корней и в обнаружении закулисных тайн каждого ведомства, сами чиновники соответствующих ведомств стали приносить ему документы и делать соответствующая указания. Таким образом, все нерешенные или решенные неудачно внутриведомственные споры получали возможность вновь появиться при публичном обсуждении на думской трибуне. Кроме либеральных экспертов-добровольцев, тут, конечно, появилась масса лиц заинтересованных. Для иного человека, чем А.И., такое положение могло оказаться опасным и рискованным. Кое-кто из членов большинства Думы на этом построил не только свою парламентскую карьеру, но и личное благополучие. По отношению к А.И. все такие попытки - и все соответствующие подозрения - сразу отпадали. Безусловная честность и неподкупность его, не только как члена оппозиции, к которой подобные подозрения вообще не приставали, но и как личности с определенными общественными убеждениями и привычками, были выше всех попыток клеветы и инсинуаций. Таким образом, положение, созданное себе А.И., было поистине исключительным. На этой почве он заставил всю Думу прислушиваться к себе, а потом и ценить себя. Националист гр. Бобринский, желая уязвить видного противника, как-то назвал А.И. кадетским "Мюр и Мерилизом". При той быстроте, с которой приходилось работать, при огромном разнообразии тем, чередовавшихся по всем отраслям государственного хозяйства, естественно, что ни А.И. - ни кто-либо другой на его месте - не имел возможности приобрести специальных познаний в каждом вопросе. Но мне вспоминается отзыв одного приятеля француза, поговорившего полчаса с А.И. во время нашей заграничной думской поездки: "Какая светлая голова!" Действительно, А.И. выработал в себе замечательную способность быстро ориентироваться и, по необходимости, погружаясь в мельчайшие детали, никогда не выпускать из вида главного, основного. Его длинные думские речи по бюджету были, обыкновенно, целой энциклопедией отмеченных им и подобранных фактов: можно было сказать, что для доказательства их дано слишком много, но никогда нельзя было утверждать, что они не характерны. Все изложение всегда было связано одной красной нитью, все фактическая данные были расставлены по подходящим местам.
Авторитет А.И. быстро рос в глазах всей государственной Думы уже потому, что в скором времени бюджетные вопросы в самом деле стали вопросами, интересовавшими все народное представительство. Партии большинства поняли, что это - та единственная почва, на которой даже они могут оказаться силой и заставить считаться с собой. Таким образом, знания, приобретенные А.И., обоснованность аргументации, которой не могли подкопать официальные эксперты, упорная защита народного достояния, - все это как бы становилось общей собственностью всей государственной Думы. А.И. становился до известной степени, своим человеком у членов Думы, как он стал, в известном смысле, своим человеком среди ведомственной оппозиции. И опять таки, это исключительное положение, которое для иных могло бы оказаться слишком соблазнительным, ничуть не отразилось на политической позиции А.И. Он никогда не заискивал перед политическими противниками, и очень часто говорил им с кафедры горькие истины. Можно сказать, что он импонировал им именно этой своей прямотой и искренностью. А.И. был одним из немногих членов левой оппозиции, не возбуждавших ни в ком чувства личной злобы. Политическая страсть как-то падала и смолкала, приближаясь к нему. Как известно, дело кончилось тем, что в Четвертой Думе, уже перед раскатами революционного грома, вся Дума выбрала А.И. на почетный пост председателя военной комиссии государственной Думы в тот момент, когда надо было все внимание Думы сосредоточить на том, на чем оно было сосредоточено в стране: на недостатках военной самообороны. Не было больше речи о сомнительности патриотизма партии Народной Свободы, о "бомбочках в кармане" и об антигосударственных стремлениях оппозиции. Именно личность А.И. и его неусыпная деятельность сделали возможным создание того настроения Четвертой Думы, которое привело к "Прогрессивному блоку" и к возможности в первые дни революции взять руководство ею в руки думского комитета.
Но не в одних только бюджетных вопросах сказался авторитет А.И. Завоеванным им положением он воспользовался для того, чтобы проводить наши общие оппозиционные взгляды. Особенно ярко выразилась эта его деятельность в вопросе, к которому он тоже был подготовлен своей деятельностью среди крестьянства. Я разумею столыпинские аграрные законы, встряхнувшие крестьянскую Русь и - увы! - заслужившие потом такое одобрение самых разнообразных партий. Мне пришлось вместе с А.И. провести думскую кампанию против этих законов. Ни для одного из нас не было ни малейшего сомнения в искусственности и насильственности столыпинского законодательства, в его очевидной политической цели - отвратить внимание крестьянства от помещиков и поссорить крестьян между собой, выделив из их среды кандидатов на пополнение дворянских списков, слишком поредевших во многих губерниях. И я должен сказать, что если бюджетная деятельность А.И. явилась высшей точкой его влияния в Думе, то борьба за интересы обделяемой крестьянской бедноты явилась зенитом его всероссийской известности. Я не могу забыть, какая масса ходоков и письменных обращений потянулась к нам со всех концов России, узнав о нашей оппозиции столыпинской ставке на "крепкого мужика". Хотя нам не удалось отвратить беды, но, все же, первоначальные предположения правительства были несколько смягчены, изменены и дополнены в силу возражений оппозиции.
А.И. ни за что не хотел снять с себя громадного груза, упавшего на его плечи. Он даже очень ревниво относился к попыткам друзей снять с него часть этой тяжести. Он как будто чувствовал, что никто другой, не участвовавший вместе с ним в установлении личных связей, обогативших его материалом и основанных на личном доверии, не мог бы удержать работы на достигнутом им уровне. И члены фракции, иногда немного ворча, подчинились его авторитету. Становясь смелее по мере сознания своего положения и своей ответственности, А.И. иногда шел своей дорогой, напоминавшей о народнических истоках его убеждений. Но тут был главный нерв его работы, и отделять его технические знания от его идейных выводов никому не приходило в голову. А.И., таков, каким он был, представлял слишком цельную и крупную фигуру, чтобы можно было пытаться разделить в нем исполнителя от инициатора. К тому же, чем более входил он в работу, стоившую ему стольких усилий, тем нетерпеливее становился к возражениям людей, остававшихся за порогом святилища, в котором он знал все входы и выходы.
Некоторая нетерпеливость к возражениям была, впрочем, также последствием возраставшей нервозности А.И. Этот необыкновенно уравновешенный человек, никогда не страдавший излишним самолюбием, весь погруженный в дело и не замечавший людей, аскет по природе и по привычке, чрезвычайно строгий к себе, переносил как-то автоматически ту же строгость требований и на других. Человек необыкновенной доброты, исключительно мягкий сердцем, окруженный дружбой и ценивший личные привязанности, он в общественной работе часто напускал на себя суровость, которая обманывала иных, не знавших его близко. Ему пришлось, уже в силу своей перегруженности работой, несколько ограничить доступность свою для всякого нуждавшаяся в его совете или поддержке [как] влиятельного депутата. Нужно припомнить, что в последнюю Думу он вошел уже как представитель столицы, чтобы представить себе, какую обузу составляло для него удовлетворенье желаний всех, кому было не лень и не совестно, потревожить немногие минуты остававшегося у него досуга. Уже семье пришлось тут установить пределы, которых никак не мог установить сам А.И. Было вообще интересно наблюдать, с каким трудом этот природный демократ осваивался с внешними последствиями занятого им влиятельного положения.
Приятной неожиданностью для друзей А.И. было в это время открытие, что народник-аскет, принципиально преследовавший малейшее употребление алкогольных напитков и никогда не участвовавший в товарищеских пирушках, казавшийся многим типичным образцом Базаровского или Рахметовского типа, вовсе не чужд утонченных и благородных удовольствий, доставляемых искусством. Мне не раз приходилось наблюдать, как сильно действовала на А.И. музыка, хотя он и не был технически знаком с ней. Помню также наслаждение, с которым во время нашей парламентской поездки по Италии А.И. предавался новому для него ознакомлению с сокровищами старого классического и итальянского искусства. Рано утром в день нашего отъезда из Рима, когда вся делегация уже собралась ехать на вокзал, А.И. запросил маленькой отсрочки: ему непременно хотелось видеть статую Венеры вновь открытого типа, о котором рассказал ему сопровождавший нас профессор. Более известно его увлечете красотами природы. В тюремном дневнике он не забывает отметить цвет облаков при заходе солнца, - "искристые шапки пушистого снега, словно разубранные в праздничный наряд", кусочек голубого неба, видный из его камеры. Надо было видеть, с какой любовью во время прогулок за городом он останавливался на разных сортах растений, рассказывая о них своим спутникам: остатки первоначальной любимой профессии, которою он пожертвовал сознанию общественного долга.
Мы замечали, к сожалению, и другое. Годы усиленного труда прошли для А.И. недаром. Его молодое лицо в несколько лет пожелтело и покрылось глубокими бороздами. Нависли брови над добрыми голубыми глазами; затуманился их блеск. Отяжелела легкая поступь, пропала гибкость движений. Уже в камере А.И. написал строки, которые показывают, что, как доктор, он не мог не замечать постепенного разрушения своего организма. Но это его не останавливало в трудной, подъятой на себя, работе.
"В камере очень надоедают мне сердцебиения, - пишет он. - Прежде они были так редки, теперь, видимо, процесс склероза за последние два месяца очень подвинулся вперед. Это так понятно. Первые седые волосы появились у меня после смерти О. Теперь очередь за сердцем. Бог с ним. Я ничего не имел бы против прекращения его неугомонной работы. Я никогда не боялся смерти. Два раза она заглянула мне в глаза, и я оставался спокойным. ... А теперь... Я спокойно кончил бы свое земное бытие, но дети"... И А.И. просил у судьбы десятка лет, пока они вырастут. "Больше мне лично ничего не надо".
А.И. писал эти строки под влиянием смерти любимой жены. Они так не идут к его обычной жизнерадостности. Секрет ее заключался именно в том, что интерес к жизни для А.И. далеко не ограничивался личным кругом. Тот огромный общественный процесс, в котором он лично участвовал и играл видную роль, глубоко интересовал его. Он хотел, как мы видели, не революции, а эволюции для русской жизни. Но он принял революцию, как нечто ставшее неизбежным и уже не зависящее от личной воли. Нечего и говорить, что он заранее принимал главные результаты революции. В дневнике он отвечает на вопрос, ему предлагавшейся (сам он едва ли даже поставил бы его):
"Стоило ли делать революцию, если она привела к таким последствиям?" Он отвечал на этот вопрос: "Наивно и близоруко думать, что революцию можно делать или не делать: она происходит и начинается вне зависимости от воли отдельных людей... Теперь, когда революция произошла, бесцельно говорить, хорошо это или плохо. С весны 1915 года она стала роковой необходимостью, и это я увидел осенью 1916 года, и в этом направлении я тогда впервые пошел. Правда, многие, и я в том числе, мечтали лишь о перевороте, а не о революции такого объема; но это было проявление нашего желания, а не реальной возможности. Тетерь, когда революция произошла в таких размерах и в таком направлении, какого тогда никто не мог предвидеть, я все же говорю - лучше, что она уже произошла. Лучше, когда лавина, нависшая над государством, уже скатилась и перестала ему угрожать. Лучше, что до дна раскрылась пропасть между народом и интеллигенцией - и стала, наконец, наполняться обломками прошлого режима... Лучше - потому, что только теперь может начаться реальная созидательная работа: замена глиняных ног русского колосса достойным его и надежным фундаментом. Вот почему я не жалею о происшедшем, готов повторить его и не опасаюсь будущего... Я не боюсь этих экспериментов буйной юности мысли и незнания собственного народа и чужой истории. Чужой опыт всегда плохо используется, и лучшая наука - собственные ошибки... Этот примиряющей аккорд для меня имеет теперь первенствующее значение... Вот почему я приемлю революцию, и не только приемлю, но и приветствую, и не только приветствую, но и утверждаю".
Эта "примиряющая" точка зрения, так хорошо отвечавшая природному оптимизму Шингарева, применяется им и к суждению об ошибках отдельных лиц в процессе революции. Он вовсе не был фаталистом. Но он сознавал бессилие отдельной личности перед этим падением "лавины". "Все, кто себя упрекает или собою гордится за время революции, - пишет он в "Дневнике", - могут это делать лишь по отношению себя самих... Сожаление, раскаяние, упреки и обвинения интересны и, быть может, уместны в индивидуальной жизни, в личных характеристиках или личных переживаниях. Для революции они - ничто; они так же бесцельны, как гадания на тему, что было бы, если бы то-то и то-то не случилось, или если бы такой-то не сделал того-то... Изменение их поведения ничего не смогло бы изменить в ходе развития революции".
Однако, сам А.И. тут же оговорился, что "это не фатум и не детерминизм", это только вывод из "логического развития событий в громадном масштабе под влиянием громадной силы движущих сил". И нельзя сказать, чтобы А.И. в этом процессе заранее зачеркивал свою собственную волю. Я был свидетелем его поведения во Временном правительстве, и должен сказать, что из всех моих коллег по партии он меньше всего мирился с пассивной отдачей себя на волю стихийного процесса. Он поддерживал меня во всех моих попытках, - увы! бессильных, - предупредить нарастание инерции падавшей лавины. Но он пошел дальше меня в подчинении неизбежному. Он принял и возложил на себя и этот тяжкий труд, как принял с самого начала не тот министерский пост, к которому стремился. Он сделал это, сознавая, что дело ведется по ложному пути. Но он хотел остаться частью того целого, которое, силою обстоятельств или ошибками лиц, влеклось к обрыву.
Это проявление какой-то особой примиренности и мудрости рельефно сказалось, когда вопрос зашел о жизни или смерти - после выбора А.И. в члены Учредительного Собрания. Его "Дневник" начинается словами: "И дома, и в Воронеже, и в Москве мне отсоветовали ехать в Петроград, так как большевики меня наверное арестуют. Мне самому казалось, что это должно случиться; но я и в ЦК и всем остальным говорил: я должен ехать. Бывают минуты, когда личная безопасность политического деятеля должна отступить перед его общественным долгом. На 28-ое (ноября) назначено открытие Учредительная Собрания. Я и другие избранные в члены Собрания должны быть в назначенное время на месте".
В числе уговаривавших А.И. не ехать был и я, видевший его в последний раз, в ноябре, в Ростове, куда он заехал, между Воронежем и Москвой. Он уговаривал и меня ехать, и прилагал ко мне свое строгое осуждение в случае отказа. И тщетны были все мои убеждения, что, напротив, он не имеет права идти на несомненную и бесполезную жертву, что он должен, не отказываясь от своего депутатского долга, выждать хотя бы несколько недель, чтобы выяснить, сможет ли он выполнять свои обязанности. Я уверял его, что Учредительное Собрание сразу же будет разогнано большевиками. Он остался при своем - и поехал. "Пусть население знает, - писал он в начальных строках "Дневника", - кто срывает Учредительное Собрание, кто насилует свободу народа. Из нашего задержания должна получиться польза. Когда-нибудь да прояснится народное сознание". "Какую бы речь вы сказали сегодня в Учредительном Собрании?" - спросил его, шутливо, кн. Павел Долгоруков, арестованный одновременно с ним. "Я сказал бы речь о том: как русская революция сама себя убивает".
А.И., как и все, не предвидел, как долго затянется существование победившего режима. Но он прекрасно сознавал с самого начала, что, дорвавшись до власти, "этот режим" "дешево ее не отдаст", что "он не изжил ни своей идеологии, ни своего, увы, обаяния для темной массы,... а потому он циничнее и храбрее" самодержавия. "Ему все нипочем". А.И. негодует на бесстыдство новых завоевателей, на "безумие хозяев Смольного", "думающих, что нанесли смертельный удар капитализму", "разрушив и частный, и государственный кредит". А.И. приходит в ужас при зловещей мысли: "выдержит ли государство, которое мне дорого и целость которого для меня есть главное основание его будущего расцвета и силы?" "Вот вопросы, которые не дают мне покоя и разрешение которых темно для меня". Но и тут оптимизм А.И. побеждает. "Вера в государство, в народ, несмотря ни на что, во мне преобладает". "Масса, рано или поздно, образумится. Солдаты возвратятся домой, рабочие исстрадаются от голода и от безработицы большевицкой разрухи и изверятся в своих безумных вождей; уголовные постепенно снова попадут в тюрьмы..., германцы уйдут nach Vaterland или будут эксплуатировать новую колонию, и только идеологи и безумцы никогда не поймут, что они сделали и чьим орудием они были... Они дрожжи, и как дрожжи должны первые погибнуть". Этот прогноз касался ближайшего будущего, и теперь его надо понимать mutatis mutandis. Но, сделав его, А.И. делает любопытное прибавление, характеризующее его не умирающую веру в людей. "Одного не понимаю - то, чего не мог понять никогда. Как это вера в величайшие принципы морали, общественного устройства может совмещаться с низостью насилия над инакомыслящими, с клеветой и грязью. Тут или величайшая ложь своему собственному богу, или безграничная глупость, или то состояние, наконец, которое английские психиатры определяют понятием moral insanity - нравственное помешательство, неспособное различить добро и зло, слепота и глухота к низкому, подлому, преступному". Преступление есть болезнь: в этой мысли А.И. ищет спасения для своей веры, которую донес от юных лет до седины. Для него, морально-здорового, насквозь чистого, многое было непонятно в житейской грязи.
А.И. не сомневался в конечном падении большевизма. Но и тут удручала его мысль, характеризующая его чистую душу. "Сколько горя предстоит еще стране" даже в случае благополучной развязки. Караульный в тюрьме говорит А.И. про большевиков: "Пропадут они со своим социализмом". "Да, конечно, пропадут, - записываете А.И., - но сколько пропадет помимо них ни в чем неповинных, темных, несчастных людей, которым сулили рай на земле, мир на фронте, а повели к гражданской войне и к новым убийствам"...
Занятый этими мыслями, А.И. меньше всего думал о себе в тюрьме. Он отказался от привилегированного режима, тяготился дружескими посещениями, и не трогал принесенных запасов. Он и тут применял свой аскетический режим, не замечая ни холода, ни голода. Уединение ему даже нравилось.
Не в добрый час перевезли А.И. и Кокошкина из Петропавловской крепости, где к ним стража привыкла, в Мариинскую больницу. В Петербурге царило волнение, вызванное покушением на Ленина. Красногвардейцы были проникнуты чувствами злобы и мести. А.И. прочел в "Правде" кровожадную статью, в которой за каждую голову "народных вождей" требовалось "сто голов" противников. До него доходили слухи, что "среди нашего гарнизона будто бы решено, в случае несчастья в Смольном (т.е. смерти Ленина), расправиться с нами". Сам А.И. наблюдал у своих сторожей "скорее, обратное настроение", и по поводу предстоявшего перевода писал: "Не знаю, лучше ли это, или хуже". Сестре он передавал, что кое-кто из сторожей его предупреждал: "Мы слышали, что вы переводитесь в больницу; зачем вы это делаете: ведь у нас хорошо, а там будут красногвардейцы". И сам А.И., видимо, разделял эти опасения. Но перевод был решен домашними, замечавшими быстрое ухудшение здоровья А.И. и уверенными в преимуществах больницы перед тюрьмой. Перевод был исхлопотан в качестве исключительной милости у начальства.
Вечером 6-го января 1918 года А.И. был перевезен в помещение Мариинской больницы. В 10 часов вечера его посетил старший врач больницы; около полуночи А.И. заснул - впервые после двух с лишним месяцев - в теплой комнате, на чистой и мягкой постели. Он собирался воспользоваться невольным досугом, чтобы полечиться, а то "если бы меня выпустили, я бы сразу начал работать; некогда бы было лечиться, а теперь поневоле попью йод и еще что-нибудь".
Начать этой новой трудовой жизни А.И. не пришлось. Через полчаса после того, как он затушил лампу, пришли красноармейцы под предводительством солдата Басова, под предлогом смены караула. Часть их вошла в комнату А.И.. Басов светил, а другие тремя выстрелами в лицо, грудь и живот нанесли смертельные раны А.И. Он, видимо, пытался бороться; был жив, не сразу потерял сознание. Он просил не делать перевязки, вспрыснуть морфий. Его последние слова были: "Дети, несчастные дети". Часа через полтора он умер.
Только 12-го января ужасная весть дошла до меня в Ростов. Весь город был поражен двойным убийством Шингарева и Кокошкина. Шингарева в особенности знали и любили. И весь город пришел на панихиду, наполнив всю площадь перед собором. Если бы знала и могла, вся Россия в эти дни сделала бы то же самое.
Не могли мы спасти Шингарева. Его смерть, как он того и хотел, стала символической. Осуществится и его уверенность, что этой смерти не забудут. Лишнего обличения, после всего того, что пережила Россия в течение двенадцати лет, эта смерть, конечно, не принесет. Но она будет напоминать массам, для которых работал Шингарев, с какой прямой дороги свернула революция, им признанная и одобренная; кто были их истинные друзья, чего они хотели и на какую дорогу Россия должна вернуться, чтобы продолжать свое историческое шествие по правильному, широкому, хотя и долгому, пути к осуществлению тех идеалов, для которых Шингарев жил, во имя которых умер.
Наверх 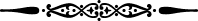 |
|
|

